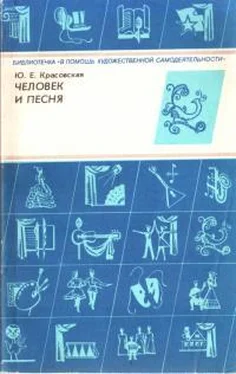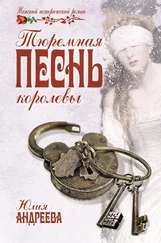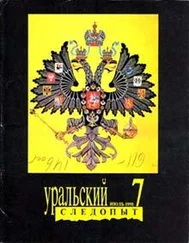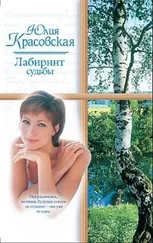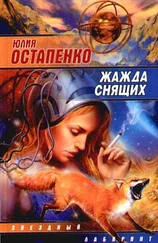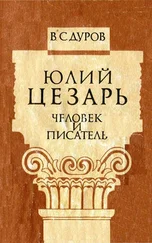А что это одна из величайших вершин искусства хорового — цепное дыхание в русской народной песне — работникам культуры и дела нет. Их этому не учили. Вот и учат петь «по-культурному». На счету подобных специалистов немалое количество погубленных народных талантов, сельских хоров.
Сегодняшняя Варзуга еще держится. Как и раньше, она экономический и культурный центр края. Жив и ее многославный народный хор.
А когда-то случайный попутчик (приезжий, временный, не терчанин), руководитель районного масштаба (тот, который уверял меня, что никогда не было деревни Вялозера) в ответ на мою откровенность огорчил меня. Я сказала ему, что мечтаю о том времени, когда моя малышка дочь подрастет и я привезу ее с собой на Терский берег познакомиться со «много-множеством» чудес: с людьми сильными, суровыми, веселыми, красивыми и добрыми, погостить среди сказок древних, подстеречь лешего на таежной тропинке, услышать голос Великого Моря (то тихий, невнятно ласковый, то грозный), отгадать загадки мудреные, послушать и перенять песни протяжные, «приговорки» веселые, игры детские исконные, увидеть просторы северные неохватные... «Нет, — уныло сказал руководитель, — лет через пять в этом районе уже не останется ни одного человека. Только в Умбе, в Лесном, в райцентре, будет жизнь. Бесперспективный район, нерентабельный... И хора Варзуги не будет. И песни петь будет некому. И самой Варзуги тоже не будет. Ничего не будет. Море, камни и лес. Как было сначала. Попомните мое слово...»
И вот спустя двенадцать лет после этого разговора я снова иду (в который уж раз!) по Терскому берегу, а рядом со мной очень серьезно шагает с маленьким рюкзаком моя вторая дочь Анюта, большеглазая, внимательная, жадно все запоминающая. Через год пойдет она в школу, и терские сказки, песни, побасенки, бывальщины, загадки, игры и считалки будут для нее не только замечательной книжкой, но и жизненной реальностью. «А помнишь, мама, бабушка Саша спела нам игру «Миколку-циколку» так, как ты меня с Вовой учила, а бабушка Евдокия — немного по-другому! У нее еще там «Ехала лягушка — кинула мякушку». Малышка смеется от удовольствия, удивляя маму умением сравнивать варианты разных записей.
Живет сегодня Терский берег вместе с людьми, не осиротел. И в селе славном Варзуге нынче столько же дворов, как при Иване Грозном: «...сто двадцать пять дворов живуще» и, как прежде, в том же русле, под крутым берегом течет река Варзуга «под дворы». А бабушки, «поваливши» ребят спать, все так же ласково байкают-припевают:
Котик ходит по болоту,
Нанимаетсе в роботу,
Ты, коток, сюды поди,
У нас Олюшку сыпи...
А строптивых шалунов-неслухов до сих пор стращают Мамаем или Басаргой: «Погоди-ко-се, пострел! Щас тя Басарга возьмет!..» (Одно из самых больших чудо-чудес — устная память народная сегодня вживе напоминает нам о том, что в 1568 году — ни много ни мало четыреста с лишним лет тому назад! — в связи с конфликтом вольных варзужан и «опричных» двинян Иван Грозный направил на Терский берег целую карательную экспедицию, возглавляемую видным опричником Басаргой Федором Леонтьевым, «править суды»... О «Басаргине правеже» рассказывают и сейчас с подробностями на Терском берегу.)
И все так же стройно и мощно звучит в летние белые ночи и зимними долгими вечерами хор Варзуги. Александра Капитоновна умеет «заражать» своей деятельной любовью к песне (это еще одна из типичных черт ее характера). Не секрет, что дети большинства народных исполнителей не наследуют родительского песенного мастерства. А три дочери Александры Капитоновны (все три здесь же живут, колхозницы, работают очень хорошо) Лия Попова, Клавдия Чунина и Фиона Вопиящина с матерью в хоре поют. Думается, варзужскому бы клубу дать настоящего руководителя, заинтересованного в судьбе хора, способного пойти в ученики к Александре Капитоновне, — и пошла бы молодежь в хор. «А так у нас кто поет? Старухи-ти да возраст моих дочерей,— говорит Александра Капитоновна. — До войны начинали ходить я, да Федора Николаевна Коворнина, да сестра моя Клавдёя Капитоновна Заборщикова, да Онисья Степановна Рогозина, Христина Николаевна Рогозина (козули-ти тебе лепила), да Ольга Мефодьевна Мошникова, Раисья Никоновна Вопиящина. Опосля войны ище запоходили в хор Федора Омельяновна Петрашова, Мавра Константиновна Плотникова, Лукия Кузьмовна Алибастрова, Александра Петровна Чурилова (та мне невестка, а я ей — золовка: за моим братом взамужом), Мария Егоровна Чурилова (тож невестка мне), Еликанида Иоакимовна Мошникова да Маремьяна Олёксеевна Конёва, Евстолья Васильевна Гурьева (эти вси активисты), Ульяна Степановна Заборщикова, Ольга Ефимовна Заборщикова, Капитолина Григорьевна Заборщикова, Капитолина Михайловна Попова, Федора Петровна Заборщикова, Домна Прокопьевна Чунина, Капитолина Дмитриевна Заборщикова да ище человек несколько — всих не перепишёшь, дак...» Сколько раз встречалась я с хором Варзуги — осенью, зимой, весной, летом — не счесть. Кажется, не только сами хористки — каждый повойник [115] Повойник — головной убор замужней женщины, полностью покрывающий волосы (древнерус.).
знаком мне, каждый узор орнамента на вышитых «давношных» рукавах домотканых рубах... Вот этот повойник — алого рытого [116] Рытый бархат — с выпуклыми узорами, которые наносились на материал особым способом — «рытьём» (древнерус.).
бархату (ему больше ста лет), этот — розшивник [117] Розшивник — расшитый сплошь узорами золотой или серебряной нитью.
. На этом — древнейший образ: фантастическое дерево-цветок, в очертаниях которого угадывается женская фигура с простертыми вверх руками. Здесь — узоры подчеркнуты скатным речным варзужским жемчугом... Эта старинная шаль переливается всеми оттенками пунцовой розы, а та — голубизной весеннего неба, эта оранжево теплится, а та — как сентябрьский закат...
Читать дальше