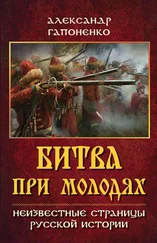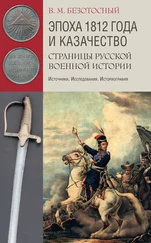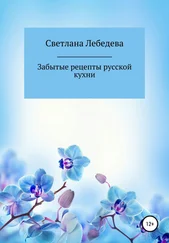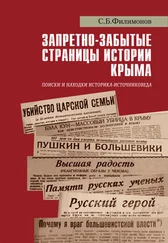Это вызывает, в свою очередь, появление любительских «организаций» под эгидой просвещенных меломанов и меценатов, при активном участии исполнителей, критиков, журналистов, например, «Кружка любителей русской музыки» М. С. и М. А. Керзиных, «Музыкальных выставок» М. А. Дейша-Сионицкой, «Дома песни» М. А. Олениной-д’Альгейм, «Вечеров современной музыки» и т. п., концерты которых утвердили совершенно особую форму исполнительства — камерную (до этого романсы исполнялись в основном оперными певцами, в дополнение к оперным ариям, с теми же вокальными приемами), с особой культурой пения, тончайшей нюансировкой, подробной психологической разработкой образов, состояний. Тем самым стимулировалось и композиторское творчество.
Все это имеет прямое отношение к Аренскому, Танееву и Метнеру, каждый из которых по-своему связан с этой эпохой, по-разному отразил ее в своем творчестве. Их романсы, сегодня в значительной мере забытые, широко звучали, были любимы и признаны. Задача этой книжки — вернуть их любителям музыки как важную часть нашего духовного наследия.
Делиться своими мыслями и наблюдениями я буду, имея в виду не только читателя, но и слушателя — к нему я обращаюсь, рассказывая о своем пути к композитору, к его вокальной лирике.
Танеев и его вокальная музыка
Начну с признания: по каким-то мне самому неведомым причинам в бытность мою студентом консерватории я не спел ни одного из романсов Танеева и представление о них, как и обо всем творчестве этого замечательного композитора, осталось чисто умозрительным. За его произведениями мне виделся суровый человек, со старомодной бородой и умными глазами — метр хоровой музыки и бог полифонии.
Настоящий интерес к творчеству Танеева появился в 1979 году, когда мне в театре предложили исполнить партию Ореста из оперы «Орестея». Впервые при ее подготовке пришло ощущение необычной грандиозности и величественности... К сожалению, театр отказался от идеи постановки этой оперы, но музыка оставила неизгладимый след на всю жизнь. Теперь арию Ореста даю своим ученикам как образец прекрасного монолога, благодаря которому средствами танеевской мелодики и гармонии можно выработать вкус к пониманию возвышенного.
Подлинное увлечение Танеевым началось с разучивания теноровой партии в его кантате на слова А. Хомякова «По прочтении псалма», которая была исполнена в 1975 году под управлением А. Дмитриева в Большом зале Ленинградской филармонии. Впервые удалось понять, что такое «философская лирика» и какое она может давать исполнителю (уверен, что и в равной степени слушателю) удовлетворение и наслаждение, да и может ли кто-нибудь не внять, остаться глухим к этико-гуманистическому призыву строк кантаты:
Мне нужно сердце чище злата
И воля крепкая в труде.
Мне нужен брат, любящий брата,
Нужна мне правда на суде!..
Внимательнейшим образом прочел я теперь главу о Танееве в учебнике по истории музыки, переписку Танеева с Чайковским, разыскал материалы о пребывании Танеева в имении Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, совсем недавно прочел впервые опубликованный дневник С. А. Толстой. Особое внимание привлек круг общения Танеева (литературный, музыкальный). С консерваторских лет дружба с Н. Г. Рубинштейном, П. И. Чайковским, затем в Париже — пребывание в атмосфере дома Полины Виардо, беседы с И. С. Тургеневым, а также знакомство с известными французскими писателями и композиторами, назову лишь некоторых: Сен-Санс, Дюпарк, Форе, Гуно, Флобер, Ренан.
Вернувшись в Россию, Танеев поддерживает творческие контакты с Мусоргским, Бородиным, Римским-Корсаковым, Глазуновым, Лядовым, у него учатся Рахманинов, Скрябин, Глиэр, Метнер, Игумнов, Гольденвейзер, в концертах он аккомпанирует Дейша-Сионицкой, Лавровской, Собинову и другим. Скоро завоевав пианистическое признание, Танеев-композитор с самого начала творческого пути испытал горечь непризнания у значительной части критики. Его обвиняли в сухости, невыразительности мелодии, в главенствующем и подавляющем эмоцию интеллектуализме. Даже Чайковский упрекал своего любимого ученика в непонимании таких состояний, как одухотворенность и озарение, под влиянием которых создается истинно великое. Танеев был уверен, что зная законы композиции (а он их знал, как никто другой), то есть используя закономерности формы, гармонии, контрапункта, можно сочинять музыку. Но думается, что наряду с этим знанием Танеев обладал несомненным композиторским даром, ибо нельзя по одним лишь «законам» написать такое мощное произведение, как кантата «Иоанн Дамаскин», нельзя создать «Орестею» с изумительной сценой Эриний.
Читать дальше
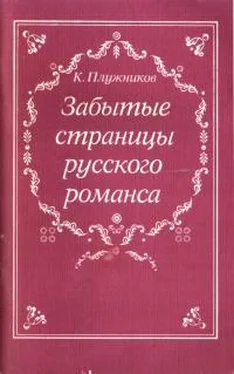
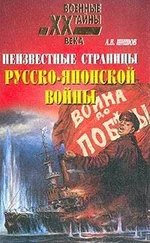
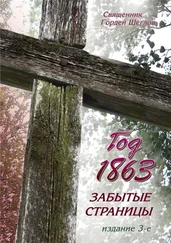

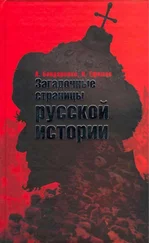

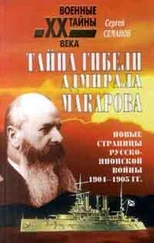
![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/431079/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st-thumb.webp)