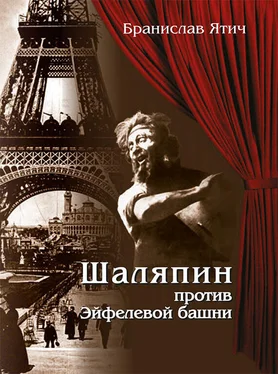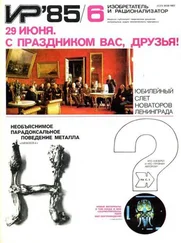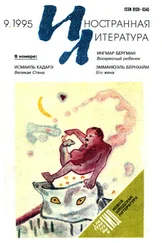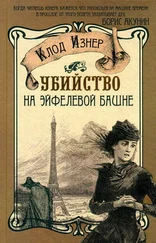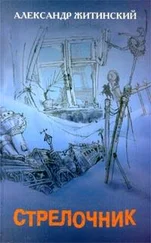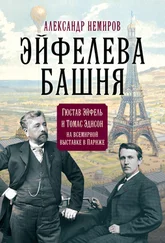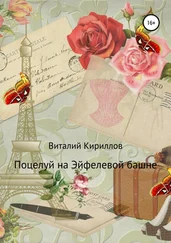И, наконец, только игра переживания обеспечивает правильное и точное употребление тембровой палитры человеческого голоса, при том условии, разумеется, что вокальная техника не ставит певцу никаких ограничений. В этом – первое предварительное условие правдивости и убедительности всей интерпретации. Употребление тембровых красок – органическая часть игры переживания в опере, без этой палитры игра переживания в опере не существует.
Идя к концу моей карьеры, я начинаю думать <���…>, что в моем искусстве я Рембрандт [254].
Ф. И. Шаляпин
Интонация вздоха [255]находится в самой прямой связи с пропорциями, соответствующими конкретному образу и конкретной сценической ситуации.
Рассказывая о своей интерпретации Бориса Годунова, Шаляпин между прочим говорит следующее:
«Мне дорога сцена с курантами – в ней я довожу все силы своих чувств и мыслей до самого большого напряжения, чтобы выразить – а не проиллюстрировать! – жестокую бурю трагических переживаний Бориса. Но не меньшее напряжение чувств и мыслей надобно для того, чтобы выразить – а не проиллюстрировать! – царственное величие Годунова в его фразе „А там сзывать народ на пир…” из первого монолога или найти верную – внешне спокойную, а затем решительную, волевую – интонацию в маленькой сцене с Ближним боярином, когда последний сообщает о прибытии Шуйского и о заговоре, зреющем среди крамольных бояр. Когда на сообщение боярина я спокойно отвечаю:
– Шуйский? Зови! Скажи, что рады видеть князя и ждем его беседы, – не ищите в интонациях и красках моего голоса бытового житейского спокойствия: я выражаю спокойствие царя Бориса, причем выражаю его в момент, непосредственно идущий вслед за монологом „Достиг я высшей власти”. Следовательно, в этом спокойствии должны прозвучать у меня и отзвуки только что посетивших Бориса тревожных видений („И даже сон бежит и в сумраке ночи дитя окровавленное встает…”), и стремление во что бы то ни стало скрыть свое волнение от боярина, и предчувствие новой беды от появления Шуйского, в котором я, царь Борис, привык видеть умного и хитрого врага, и, опять-таки, стремление скрыть эту свою новую тревогу и т. д., и т. п.» [256].
Речь идет о том, что все выразительные средства, употребленные в этой маленькой сцене, должны находиться в точном соотношении с выразительными средствами, применяемыми в предшествующей сцене и в сцене, которая за ней непосредственно последует, для того, чтобы обеспечить спонтанность, естественность и убедительность жизни сценического персонажа. Это – пропорции, о которых говорил Шаляпин. Для того, чтобы пропорции были точными, певец должен в каждое мгновение исполняемой роли помнить роль в целом, все ее задачи и их порядок, не забывать о темпо-ритме роли, о ее кульминационных моментах, и в связи с этим о выборе и распределении выразительных средств на протяжении всей сценической жизни персонажа.
Эмоционально-психологическая душевная интонация, проистекающая из глубокого осознания каждого конкретного сценического задания роли (а к ней ведет творческое воображение и художественная интуиция), путем интонации вздоха привносится в сценический образ. Интонация вздоха есть сумма одновременных тонких психофизических действий: через вдох, предшествующий фонации, происходит «приспособление» всех ресурсов существа певца (тела, голосового аппарата, нервной системы, психо-эмоционального и душевного состояния) к тому, чтобы сверхзадача роли была выражена как можно точнее, полнее, правдивее и убедительнее. Интонация вздоха определяет количество воздуха, который вдыхает певец (способ работы диафрагмы и голосового аппарата – силу выдоха воздушной струи, разновидность «атаки» звука), иннервацию голосовых связок, анатомо-физиологическое положение всех органов и мышц, участвующих в фонации и формировании звука в резонаторах, она определяет комплексное содержание обертонов и формант (которое, в сущности, представляет физиологическую сторону тембровой палитры), дикцию и артикуляцию, тонус всего физического состояния певца, его динамику и пластику.
Интонация вздоха объединяет и приводит в гармонию весь комплекс выразительных средств (мы намеренно не подразделяем средства на певческие и актерские. Шаляпин отменил это разделение. После эры Шаляпина сценическое действие подразумевает синтез всех выразительных средств, происходящих из природы оперного жанра и направленных на решение сценических заданий образа). Эти выразительные средства связаны с каждым конкретным заданием персонажа, интонация вздоха вдыхает в них жизнь, оставаясь в соответствии с определенными пропорциями его общей сценической жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу