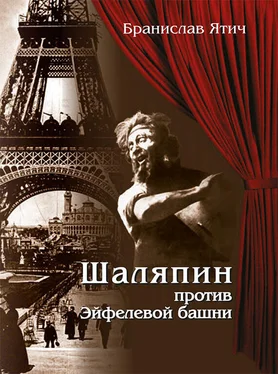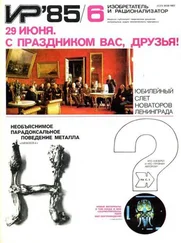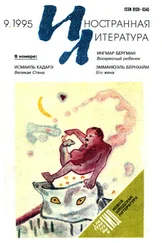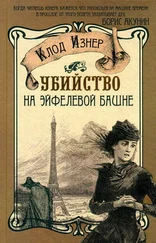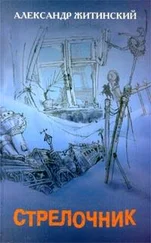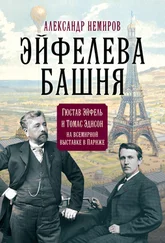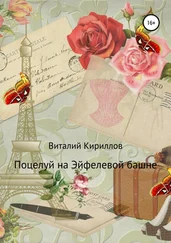Если персонаж вымышленный, творение фантазии художника, я знаю о нем все, что мне нужно и возможно знать из партитуры, – он весь там находится. Побочного света на его личность я не найду. И не ищу. Иное дело, если персонаж – лицо историческое. В этом случае я обязан обратиться к истории. Я должен изучить, какие действительные события происходили вокруг него и через него, чем он был отличен от других людей его времени и его окружения, каким он представлялся современникам и каким его рисуют историки. Это для чего нужно? Ведь играть я должен не историю, а лицо, изображенное в данном художественном произведении, как бы оно ни противоречило исторической истине. Нужно это вот для чего. Если художник с историей в полном согласии, история мне поможет глубже и всестороннее прочитать его замысел. Если художник от истории уклонился, вошел с ней в сознательное противоречие, то знать исторические факты мне в этом случае еще гораздо важнее, чем в первом. Тут, как раз на уклонениях художника от исторической правды, можно уловить самую интимную суть его замысла» [240].
Шаляпин тут же поясняет этот тезис:
«История колеблется, не знает, – виновен ли Борис в убиении царевича Димитрия в Угличе или не виновен. Пушкин делает его виновным, Мусоргский вслед за Пушкиным наделяет Бориса совестью, в которой, как в клетке зверь, мятется преступная мука. <���…> Я верен, я не могу не быть верным замыслу Пушкина и осуществлению Мусоргского – я играю преступного царя Бориса, но из знания истории я все-таки извлекаю кое-какие оттенки игры, которые иначе отсутствовали бы. Не могу сказать достоверно, но возможно, что это знание помогает мне сделать Бориса более трагически-симпатичным» [241]. Здесь речь идет о непосредственной органической связи, которая устанавливается между интеллектуальным (мыслительным) процессом и творческим воображением.
Это – первая ступень в процессе сознательного отношения к выступлению на сцене. В то же время, это исходная точка действенного анализа произведения, который Шаляпин ввел в практику оперного театра в качестве обязательного и необходимого принципа на пути создания сценического образа.
Творческое воображение и правдивость образа: обобщение
Певца, у которого нет воображения, ничто не спасет от творческого бесплодия – ни хороший голос, ни сценическая практика, ни эффектная фигура. Воображение дает роли самую жизнь и содержание [242].
Ф. И. Шаляпин
«Как бы ни был хорошо нарисован автором персонаж, он всегда останется зрительно смутным. В книге или партитуре нет картинок, нет красок, нет измерений носа в миллиметрах. Самый искусный художник слова не может пластически объективно нарисовать лицо, передать звук голоса, описать фигуру или походку человека. На что величайший художник Лев Толстой, но пусть десять талантливых художников попробуют нарисовать карандашом или писать кистью портрет Анны Карениной – выйдет десять портретов, друг на друга совершенно не похожих, хотя каждый из них в каком-нибудь отношении будет близок к синтетическому образу Анны Карениной. Очевидно, что объективной правды в этом случае быть не может, да не очень уж и интересна эта протокольная правда.
Но если актриса берется играть Анну Каренину – да простит ей это Господь! – необходимо, чтобы внешний сценический образ Анны ничем не противоречил тому общему впечатлению, которое мы получили об ней в романе Толстого. Это – мини-мальнейшее требование, которое актриса должна себе предъявить. Но этого, конечно, мало. Надо, чтобы внешний образ не только не противоречил роману Толстого, но и гармонировал с возможно большим количеством черт Анны Карениной, эти черты делал для зрителя более заметными и убедительными. Чем полнее внешний облик актрисы сольется с духовным образом, нарисованным в романе, тем он будет совершеннее. Само собою разумеется, что под внешностью я разумею не только грим лица, цвет волос и тому подобное, но манеру персонажа быть: ходить, слушать, говорить, смеяться, плакать.
Как осуществить это? Очевидно, что одного интеллектуального усилия тут недостаточно. В этой стадии создания сценического образа вступает в действие воображение – одно из главных орудий художественного творчества.
Вообразить – значит вдруг увидеть. Увидеть хорошо, ловко, правдиво. Внешний образ в целом, а затем в характерных деталях. Выражение лица, позу, жест. Для того же, чтобы правильно вообразить, надо хорошо, доподлинно знать натуру персонажа, ее главные свойства. Если хорошо вообразить нутро человека, можно правильно угадать и его внешний облик. При первом же появлении „героя” на сцене зритель непременно почувствует его характер, если глубоко почувствовал и правильно вообразил его сам актер. Воображение актера должно соприкоснуться с воображением автора и уловить существенную ноту пластического бытия персонажа» [243].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу