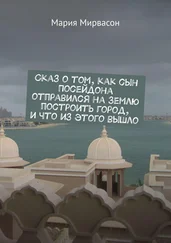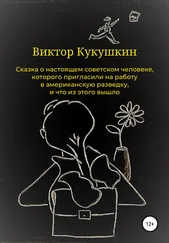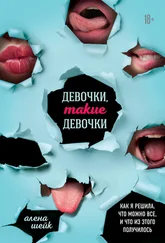Осенью 2009 года я приступил к систематическому обследованию родительской библиотеки о самодеятельной хореографии, которую они собирали с конца 1940-х годов. В декабре был составлен первый вариант исследовательской заявки, которая в течение следующего года в различных форматах обсуждалась с коллегами в Челябинске и за рубежом [6] См. первоначальный текст в формате заявочного проекта на сайте челябинско-базельского интернет-семинара по восточноевропейской истории, опубликованный почти через год после его составления: http:// isem.susu.ac.ru/arch/tanz_rus/; http:// isem.susu.ac.ru/archen/tanz_de.
. С помощью мамы в течение 2010 – первой половины 2011 года я провел серию интервью с одной из главных героинь этой книги, руководителем челябинского ансамбля танцев «Самоцветы» в 1960 – 1980-е годы В.И. Бондаревой, а также начал архивные розыски в Челябинске и Москве.
Два внешних обстоятельства подстегивали работу над проектом: договоренность подготовить челябинскую часть международного коллективного проекта по Холодной войне до конца 2010 года и организация конференции по истории смеховой культуры в России [7] О конференции «Смеховая культура в России XVIII – XX вв. (Междисциплинарные подходы, проблемы, перспективы)» см.: http:// kulthist.ru/smehovaya-kultura.html; результаты конференции опубликованы: От великого до смешного… Инструментализация смеха в российской истории XX века. Челябинск, 2013.
, в сборник по результатам которой я готовил первую печатную публикацию. Два обстоятельства ее тормозили: слишком малая временная дистанция от предыдущего проекта, который держал меня, помимо прочего, необходимостью регулярно контактировать с переводчицей и редакцией по его публикации на немецком языке [8] Narskij I.V . Fotografie und Erinnerung: Eine sowjetische Kindheit. Köln, Weimar, Wien, 2013.
, и большая любовь, накрывшая меня с головой и смешавшая все планы на будущее, приведшая к созданию новой семьи. (Мне жаль тех, кто не понимает, что большое чувство подобно форс-мажору.)
Как бы то ни было, первоначально проект был вынужденно ориентирован на Холодную войну. Он должен был называться «Агитация к танцу, агитация танцем: Холодная война и советская хореографическая самодеятельность». Чтобы не терять время на его характеристику, приведу фрагмент из резюме к первоначальному проектному тексту:
Проект посвящен советской художественной самодеятельности как культурной практике в контексте Холодной войны. Во-первых, любительская хореография рассматривается как важный коммуникативный инструмент и институт социализации, групповой и индивидуальной реализации, создания и обладания символическим капиталом престижа. Во-вторых, она интерпретируется в качестве инструментализированного государством удобного и эффективного орудия формирования советской идентичности, включая образы своего и чужого, этический и эстетический канон, представления о «правильной» телесности, мужественности и женственности, социально приемлемые эмоции. В-третьих, в эпоху Холодной войны самодеятельное танцевальное творчество отражало и одновременно создавало и приспосабливало к новым условиям образы и культурные образцы враждебного, переформатировала представления о «подлинно народной» советской эстетике и эстетически неприемлемых (в том числе хореографических) репрезентациях «буржуазного» Запада. Тем самым исследование советской хореографической художественной самодеятельности в сопоставлении с аналогичными явлениями в других странах может способствовать более объемной репрезентации и лучшему пониманию Холодной войны как культурного феномена. […]
Географически тематика проекта будет ограничена двумя уровнями: столичным (Москва) и провинциальным. Анализ центральных событий, фигур, институтов и документов не нуждается в пространном обосновании: монокефальная структура принятия властных решений в СССР отразилась на рождении и развитии советской художественной самодеятельности. Провинциальный уровень истории сценической любительской хореографии предполагается представить на примере Челябинской области, одной из самых заметных в истории советской художественной самодеятельности. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1930-х по рубеж 1980 – 1990-х гг. [9] http:// isem.susu.ac.ru/arch/tanz_rus/.
Название проекта возникло в процессе чтения книги другого главного персонажа этого исследования, предшественницы В.И. Бондаревой, руководившей челябинским тракторозаводским ансамблем танцев, будущими «Самоцветами», Н.Н. Карташовой «Воспитание танцем», одна из глав которой называлась «Агитация танцем» [10] Карташова Н.Н. Воспитание танцем: Заметки балетмейстера. Челябинск, 1976. С. 63.
.
Читать дальше
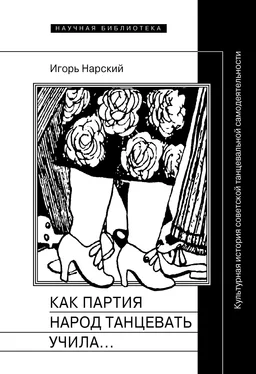
![Кэролайн Уилльямс - Мой продуктивный мозг [Как я проверила на себе лучшие методики саморазвития и что из этого вышло]](/books/23930/kerolajn-uillyams-moj-produktivnyj-mozg-kak-ya-pro-thumb.webp)
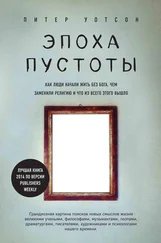

![Александр Милкус - Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/385827/aleksandr-milkus-kak-my-perestraivali-sovetskoe-ob-thumb.webp)