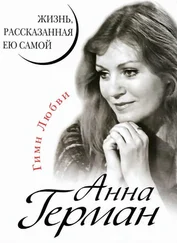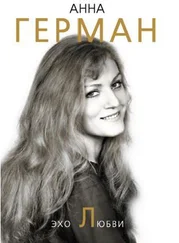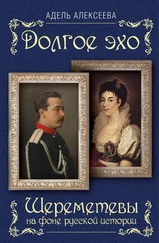Мой спутник отсутствовал. И все-таки я сжала его руку – в легком, за него, страхе, – чтобы вернуть его к нам. И, добр, как всегда, он опомнился, улыбнулся, золотые глаза потеплели. Но не его лет усталость пронизала все его существо. Так, именно, захватывает такая любовь – жизнь человека. Этим путем, если не разомкнуть его звенья, – проходят до конца. Им шел Вертер. Но им шел и Рогожин… Мышкин, своей жизнью, перечеркнул этот путь…
Закрыв глаза, я вслушиваюсь в своеобразие интонаций, тихое тонкое скольжение от низкого тона – в высокий, в грацию и печаль этого голосового полета, перелета через глубины и тишину, glissando через эту игру, ей одной свойственных звуков, легких и длинных, ускользающих, догоняющих, встречающихся в теснотах смычка и широком разливе рояля, выныривающих из-под объятий аккомпаниатора и вновь овладевающих темой, – прощания в этой песне, прощания, тесно сжавшего встречу такой неотвратимой властью, что ничего уже нет в мире – одно Прощанье, и им, им одним захлебнулась душа певицы, познавшей в нем больше, чем дано человеку, невозвратно ушедшей от радости – в неутолимую тьму «Она колдует, – размышляла я, вырываясь на миг из-под обвалов печали, – колдует или она заколдована? Но ведь нет такого вопроса – она тем и колдует, что заколдована, тем и безысходно колдовство музыки, что оно пропало в себе, в этом без дверей царстве! – тем и убедительно прощанье – с человеком, молодостью, с судьбой, – с жизнью в последнем полете – Анна, Анна, для того ли тебе возвращена эта жизнь – чтобы ею играть в последнем-то счете? Колдунья, заколдовавшая зал…»
А она стояла – высокая, нежная и печальная, портрет, со стены сошедший, – выше всех, стройнее всех, нежней всех, светлей всех, в платье небывшего цвета, и, чуть протянув руки в зал, допевала свою песню, и ее волосы, как тот отсвет зари на вершинах гор и дерев, обвевали ее лицо, начавшее улыбаться, освобождаясь от печали смычка…
И вдруг – улыбнулась, и уронила руки, невинная и бессильная перед своей прелестью, одинокая среди иноплеменности. Она стояла и улыбалась, опустив руки, неуловимо повела плечами и вдруг сгорело все, что было ею наколдовано, – стройная девочка была перед нами, выколдованная из ее пропавшей печали, улыбкой нас пустившая на волю… В какой-то, никем нежданный час юности, ничего не зная ни о какой печали, в первый раз увидевшая зал!
«Гоголя нет, – подумала я снова, – только он так воспевал панн-колдуний – мглу очей их из-под стрелок бровей, этот смех, разбивший – в хрусталь горе жизни, все горе всех, все, что было, и все, что будет, заручившись на век и за всех – сумасшедшей прелестью песен, музыки, их обнимающей, мощью счастья, которое не проходит, которым дышит земля… Но что-то и злое тут есть, – продолжаю я бороться с Анной, счастливо вверяться ей (и я уже забываю о рядом со мной сидевшем), – я сейчас, сейчас очнусь и брошусь ему на помощь! – но я должна допонять тут что-то, чтобы ему помочь».
Аплодисменты рушили зал. Анна кланялась.
И пошли концерты за концертами – годы и годы, в каждый приезд Анны в Москву – мы не пропускали ни одного, были случаи, когда подруга ее, тоже Анна, сообщала нам, что будет слушаться новая пластинка вблизи улицы Герцена, и мы шли туда и слушали новые песни Анны, предвосхищая ее приезд. В ее репертуар входило все больше русских песен, романсов. Анна все больше входила в душу русского певчества, все охотнее и увлеченнее пробовала свой голос на русских мелодиях.
Однажды, после того, как я услыхала ее на пластинке в звуках Скарлатти, я сказала моему молодому другу: «Мне не хочется, чтобы Анна ограничивала себя – эстрадой, ей надо менять путь, делаться камерной певицей». И не успел меня удержать от этого верный поклонник Анны, как я, в антракте, ей поверила мою мечту.
Легкое смущение пробежало по ее чертам. Она хотела его скрыть, явно. Покрывая его улыбкой, она ответила мне, нагнув лицо и сильно склонившись (ее рост настолько превосходил мой!): «Когда постарею…»
Ошибка, русская, в ее нерусских устах, сделала еще милее смущение. Кто-то подошел, я не успела сказать то, что просилось в ответ.
Но неожиданна была реакция моего друга!
«Жаль, что вы ей это сказали! Разве вы не замечаете, что она после катастрофы – не может дать целый концерт? Она еще недостаточно окрепла – потому она и возит с собою свой джаз. Чтобы занять публику во время ее передышек…»
«Ах вот оно что! Как жаль! Я сделала ей больно… Вечный эгоизм – не подумать о другом, а говорить то, что тебе хочется…» И все же, думаю, было лучше поздно покаяться, чем…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу