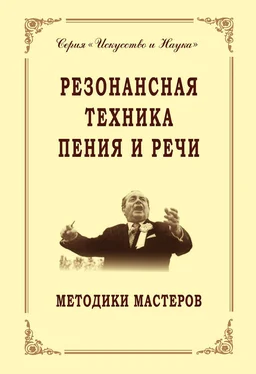Главное, на чём было сосредоточено внимание Анатолия Яковлевича как педагога-вокалиста, педагога-тенора – это проблемы выравнивания регистров (если говорить о мужских голосах) и постановки верхних нот. Иначе говоря, проблемы и болезни верхней части певческого диапазона.
В возрасте 17 лет я поступил в музыкальное училище (им. Октябрьской революции, как оно раньше называлось), теперь Академия им. Шнитке, к Анатолию Яковлевичу Синяеву и был оценен на тот момент как баритон. В каждую свободную минуту мы, его ученики, проводили в вокальном классе – слушали друг друга и показ голоса Анатолия Яковлевича. Но описывать его методику постановки голоса, я считаю, можно только на своём личном примере. Очень жаль, что у меня нет возможности встретиться сейчас с другими учениками Анатолия Яковлевича.
С первых занятий мне предложили пропевать звук «м» (соответственно пение с закрытым ртом) сначала на одной ноте, потом на двух поочерёдно с интервалом в большую секунду вверх и вниз по диапазону (до-ре-до; до-диез-ре-диез-до-диез и т. д.). Причём уже с первого занятия я должен был стремиться направлять звук «в высокую позицию», т. е. «в маску» (Анатолий Яковлевич редко употреблял выражение «в маску»). Более сложным было пение на «м» с прикрытым ртом (зубы разжаты), избегая, по возможности, носового оттенка, что достижимо только при пении «в высокой позиции».
О дыхании первые два месяца речь даже не заходила, но все требования были очень конкретны и выполнимы, поэтому выполнение их опосредованно подводило к контролю над дыханием и более экономному его расходованию. Через 6–8 занятий я начал открывать рот на слоге «на-нэ», «на-гнэ», «да-дэ». Стали вводиться нисходящие мажорные трезвучия (как один из вариантов – на «на-ди-нэ», то же с перемещением по полутонам по всему диапазону). Позже пение вверх и вниз мажорного пятизвучия на «на-дэ-на-дэ-на-дэ-на-дэ-на», которое могло заканчиваться позже на пятом тоне на «на-дэ-хнэ». Для развития дыхания количество повторов могло увеличиваться. Главное требование – это правильное, ровное звучание, без деформации из-за недостатка воздуха. Никогда не позволялось «садиться» на последний звук, если он не был верхним: начинающим трудно сохранять внимание и удерживать дыхание даже на протяжении одного упражнения, поэтому концы всегда бывают не качественными, что даёт шлейф на следующий повтор, в другой тональности. В качестве упражнения могли быть использованы интервальные скачки, в частности на октаву вверх с возвращением на первый звук: «до-до-до», «хнэ-хнэ-хнэ», «до-додидо-до».
Помню, как трудно было петь, потому что от вибрации начинали чесаться верхние веки или переносица. Удивительное явление, которое я некогда пережил сам, и которому был свидетелем у других – это ощущение удара в голову и даже кратковременное (1-2 секунды) ослабление ориентации в пространстве у начинающих певцов (примерно через год-два занятий) при взятии верхней ноты во время первого в жизни попадания «в высокую позицию» (верхний резонатор) на звучании в полный голос. Некоторые хватались за крышку рояля от неожиданности.
Почему требовалось около двух лет занятий, чтобы это испытать? Дело в том, что пока дыхательная мускулатура не достигнет правильной координации с резонатором, попытка петь в полный голос приводит к участию в фонации дополнительной мускулатуры верхних отделов голосообразующей системы и попадание «в резонаторы» затруднено. Хотя одарённые от природы певцы пользуются резонаторами и до профессионального обучения.
Я много слушал, как Анатолий Яковлевич занимался с другими учениками, а воспринимал я тогда школу больше интуицией, чем умом, поэтому главное, что я сейчас пытаюсь изложить – это его принципы. Упражнений может быть множество. Всё зависит от того, что необходимо учащемуся в данный момент.
Центральное место в работе Анатолия Яковлевича занимало воспитание и восстановление голоса теноров. К нему приходили студенты-вокалисты из других учебных заведений и уже работающие певцы – те, кому грозила профессиональная непригодность. Студенты занимались втайне от своей кафедры, но какое же было счастье, когда через 5–10 занятий появлялись сочные, яркие, блестящие верхние ноты в тех произведениях, из-за которых певцу или студенту грозила профессиональная непригодность.
Добавлю, что мой педагог не брал подарков и тем более денег. Это подтвердила его мама на поминках. Ещё Анатолий Яковлевич был очень хорошим художником. В фойе нашего училища как-то была организована его персональная выставка. У него было особенное чувство цвета и света, что отличало его пейзажи, но, все-таки, судя по всему, пение и наука о пении были смыслом жизни моего педагога.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу