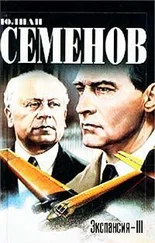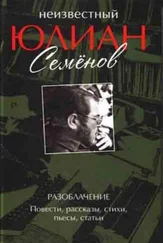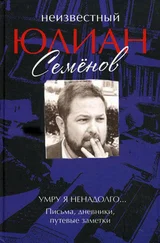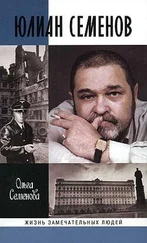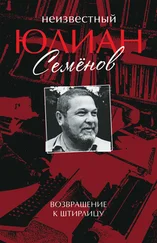– Зазнался, бурш, – говорил Енеке своим низким рокочущим басом по телефону, – это поразительно, как меняются люди, став членами кабинета министров! Кройцман, я презираю тебя! Более того, я тебя ненавижу! Если ты не приедешь ко мне на уик-энд, я обвиню тебя через прессу в высокомерии и зазнайстве!
– Хорошо, – ответил Кройцман, – я буду у тебя вечером. Краузе сегодня у тебя?
– Конечно! Даже если он засидится в газете, попозже он обязательно придет. Он тебе нужен?
– Нет. Мне нужны просто друзья, потому что я здорово устал со здешними стариками. А Блюменталь?
– Этот черт громит нас каждый вечер за то, что мы пассивны в борьбе с большевизмом и Тадденом. Конечно, придет. Жду. Имей в виду, я предупрежу Лорхен, и если ты не придешь...
– Не пугай меня, бурш. Я и так запуган до смерти.
Выпив с однокашниками грушевой водки, рассказав десяток историй о глупости боннской администрации – чем выше рангом руководитель, тем он более беспощаден в оценке ситуации и лидеров, – Кройцман поднялся наверх, поздравил фрау Никельбаум с рождением внука, поболтал с Лорхен и посетовал на занятость Гретты в институте косметики, где она проводит дни и ночи в своей лаборатории. «Хотя, быть может, это и верно, дети ценят работающих матерей... Не то чтобы работающих, а, скорее, отсутствующих в доме – кто спорит, что работа дома самая изнурительная! У тебя есть прислуга?» – «Бог мой, о чем ты говоришь?! Это невозможно. Я была вынуждена сама научиться водить машину – у Енеке идиосинкразия, а шофер просит пятьсот марок в месяц, это ведь невозможно! Раз в неделю ко мне приходит жена консьержа, а все остальное приходится вести самой – и сдачу белья, и прием покупок из бакалеи, и заказ на мойку окон, и вызов реставратора мебели – все сама!» – «А дети?» – «Остальное время – дети... Енеке со своим басом и идиосинкразией; приемы, бакалейщики, которые дерутся у моих дверей за право продавать телятину, и дети». – «Мне очень тебя жаль, Лорхен».
Потом Кройцман спустился вниз и, взяв кружку с пивом, подошел к Георгу Краузе, только что приехавшему из своей газеты.
– Георг, у меня к тебе дело...
– Я примерно догадываюсь, о чем ты говоришь...
– Шпрингер уже просил тебя вмешаться?
– У меня есть своя точка зрения на события.
– И ты ее никак не увязываешь с мнением шефа?
– Зачем? У нас есть курс – Германия, ее интересы, этому курсу я следую, а уж детали – это моя прерогатива. Разве ты находишься в ином положении, сидя в министерском кресле?
– Почти министерском, – улыбнулся Кройцман, – как правило, ни один из заместителей не становится министром. Выигрывает темная лошадь со стороны, но обязательно со своей новой программой, противоположной той, которой я должен был следовать, замещая моего министра.
– Ну, не надо со мной так говорить, Юрген... Не надо, а то я перестану тебе верить. Я ведь знаю, что ты член Наблюдательного совета у Дорнброка.
– По-моему, этих данных в прессе не было. Откуда тебе известно об этом?
– А зачем мне платят деньги? – спросил Краузе, пожав плечами.
Они закурили, молча рассматривая друг друга, будто впервые встретились... Наконец Кройцман спросил:
– Ты не помнишь, хотя бы в общих чертах, что вы даете о Берге?
Краузе достал из внутреннего кармана мятые гранки и сказал:
– Енеке предупредил, что ты интересовался, буду ли я сегодня. Пройди в другую комнату, там и почитаешь этот... фельетон о падении нравов в нашем мире.
Кройцман улыбнулся и вышел в соседнюю комнату – там был рабочий кабинет, а еще дальше – библиотека. Здесь, оставшись один, Кройцман разгладил мятые, еще влажные, пахнущие непередаваемым, прекрасным, единственным, типографским запахом гранки.
«Кому это на руку? – так начинался редакционный комментарий. – Когда с безответственными речами выступает кто-то из министерства здравоохранения, обещая победить рак в течение ближайших же месяцев, или министр Розенград клянется, что он повысит пенсию старикам старше семидесяти лет, мы не очень-то реагируем на это, потому что привыкли относиться к высказываниям наших „веселых“ министров с известной долей скептицизма. Однако мы с обостренным вниманием следим за всем, что касается основы основ нормальной жизнедеятельности демократического государства, – за соблюдением закона. Естественно, судья и прокурор, призванные охранять конституцию, это такие люди, к которым со снисхождением не отнесешься, – каждый человек так или иначе соприкасается с законом: и в счастье рождения, и в горечи смерти. Прокурор Берг известен общественному мнению как убежденный радикал: его позиция всегда отличалась аскетизмом, который кое-кто расценивал как проявление здоровой оппозиции практике наших судов и правовых институтов. Это личное дело прокурора Берга. Однако когда на пресс-конференции он повторяет пропагандистские утверждения, сфабрикованные на Востоке, – мы имеем в виду дело болгарского интеллектуала Кочева, попросившего право убежища у правительства ЮАР, – тогда следует всерьез задуматься над тем, чьи интересы отстаивает прокурор Берг в Федеративной Республике. Фридрих Дорнброк ждет официального подтверждения трагедии, а Берг посыпает солью раны отца, до сих пор отказываясь сказать, что произошло той ночью – самоубийство или же убийство его сына? Правосудие – это всегда кара и милосердие. Отсутствие одного из этих компонентов приводят к тоталитаризму. Прокурор Берг, с кем вы?!»
Читать дальше