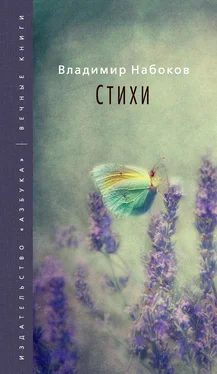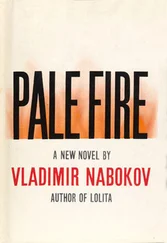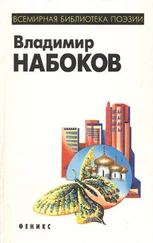Можно также предположить, что стихотворение «Какое сделал я дурное дело» – это реплика в воображаемом, вне времени и пространства, диалоге с Пастернаком (в юности Набоков представлял себе, что поэты говорят друг с другом за гробом – см. второе стихотворение из цикла «На смерть Блока» «Пушкин – радуга по всей земле…» [92] Стихотворение не включено в сборник 1979 г.; см.: Набоков В. В . Стихотворения. С. 67–68.
и «Памяти Гумилева»; в этом контексте, вероятно, важно то, что Набоков послал стихотворение в печать, только узнав о смерти Пастернака). «Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей?» – восклицает Пастернак. Набоков откликается эхом: «Какое сделал я дурное дело, / и я ли развратитель и злодей…» Пастернак говорит о «Докторе Живаго»: «Я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей». Набоков, соблюдая симметрию («весь мир» – «мир целый», «земли моей» – «девочке моей»), говорит о «Лолите»: «…я, заставляющий мечтать мир целый / о бедной девочке моей». В последних строфах оба поэта высказывают уверенность в посмертной художественной справедливости: «почти у гроба» (Пастернак) – «в конце абзаца» (Набоков). Причем Набоков, которого эмигрантская критика и в 1920–1930-е годы, и в 1958 году, сравнивая его «Лолиту» с «Доктором Живаго», обвиняла в «нерусскости», пишет о том, что когда-нибудь и он, вместе с Пастернаком, будет прославлен как глубоко русский писатель: «… тень русской ветки будет колебаться / на мраморе моей руки».
Чуть более десятка русских лирических стихотворений, написанных Набоковым в годы его жизни в Америке и потом в Швейцарии, которые завершают основную часть сборника 1979 года, представляют собой эмоциональный отклик поэта, в совершенстве владеющего техникой стиха, на внезапные приступы болезненного дребезжания его старых «русских струн» (стихотворение «Neuralgia intercostalis»). Эти прекрасные стихи лишены всякой политизированности, пародийности, металитературности и проч. – в них, по словам Набокова, перефразирующего известную дилемму «мысли» и «музыки» в поэзии, он довольствуется дающейся поэтическим опытом и резиньяцией «ничьей меж смыслом и смычком».
* * *
Значимой частью сборника «Стихи» 1979 года является предисловие Веры Набоковой, в котором она утверждает, что главной темой ее мужа, которая «как некий водяной знак, символизирует все его творчество», была тема «потусторонности». После «потусторонность» несколько лет была одной из доминантных исследовательских тем в набоковедении, однако в 1979 году, когда вдова писателя впервые ее обозначила, она была довольно неожиданной, во всяком случае противоречащей сложившейся в русской эмигрантской критике репутации Набокова как глубоко нерелигиозного писателя. Можно не сомневаться, что сказанное Верой Набоковой полностью авторизовано ее мужем [93] Об огромной роли Веры Набоковой, предпочитавшей оставаться в тени, в творческой карьере и взглядах ее мужа см. книгу Стейси Шифф «Вера (Миссис Владимир Набоков)».
и составляет контрапункт к заключительным словам завершающего сборник стихотворения «Влюбленность» из романа «Смотри на арлекинов!». Конечно, эта «потусторонность» связана не с традиционной православной религиозностью, а с мистической, неоплатонической традицией, вероятно воспринятой Набоковым в свое время через призму символизма, через влияние матери, не безразличной к мистическому опыту, через общение в Крыму в 1918 году с оккультистом и музыкантом В. И. Полем и проч. Бросается в глаза контраст между отчетливостью и определенностью Вериной формулировки и игровой энигматичностью, целомудренной уклончивостью тут же ею приводимых высказываний самого Набокова на эту тему: «Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, а точнее сказать я не вправе» [94] Пассаж с описанием Федором Годуновым-Чердынцевым своего отца в романе «Дар», с которым Вера Набокова предлагает читателю ознакомиться, «чтобы еще точнее понять, о чем идет речь», столь же апофатичен: «…что-то, трудно передаваемое словами: дымка, тайна, загадочная недоговоренность… Оно не имело прямого отношения ни к нам, ни к моей матери, ни к внешности жизни, ни даже к бабочкам (ближе всего к ним, пожалуй); это была и не задумчивость, и не печаль… Тайне его я не могу подобрать имени, но только знаю, что оттого-то и получалось то особое – и не радостное, и не угрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств – одиночество…» ( Набоков В . Дар. С. 298).
. Это задает, как кажется, правильный тон исследователям. Попытки дать «потусторонности» Набокова более конвенциональное определение неизменно ее банализируют. То, как выразила эту мысль Вера Набокова, проиллюстрировав цитатами из текстов мужа, стилистически, пожалуй, наиболее удачно именно благодаря скрытому в этом высказывании парадоксу, иронии, уклончивой недоговоренности: эта тайна, несомненно, главное в его творчестве, однако точнее сказать мы не вправе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу