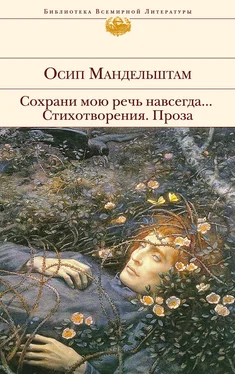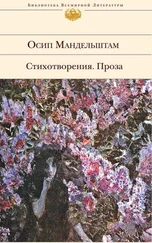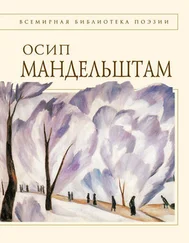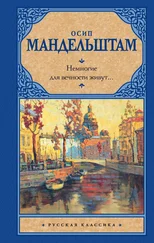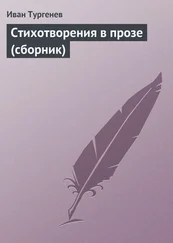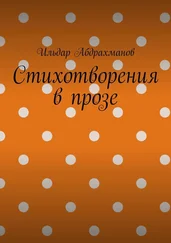Чаадаев пришел к свободному самоограничению от безграничности русского хаоса – другой герой ОМ, Андре Шенье (1762–1794; его сочинения, в том числе неизданные, вышли в 1908–1914 гг.), пришел к свободному самоограничению от насильственных ограничений французского классицизма. Заметки о Шенье, незаконченные и разрозненные, прослеживают именно, как он осуществлял абсолютную полноту поэтической свободы в пределах самого узкого канона – канона симметричного «александрийского двустишия» в (6+6)+(6+6) слогов (однако зачинателем этого стиха был не Клеман Маро в первой половине XVI в., а П. Ронсар поколением позже). Больше всего внимания уделяется публицистической оде Шенье «Jeu de раите» (см. «Язык булыжника…»); фон эпохи ( союз ума и фурий революции, равновесие между классицизмом и рождающимся романтизмом) иллюстрируется цитатами из послания Пушкина «К вельможе».
Абсолютная внутренняя свобода писателя как личности нуждалась еще и в идеологическом обосновании. Таким ОМ объявляет христианство. Статья Скрябин и христианство(вариант названия: «Пушкин и Скрябин») сохранилась лишь в отрывках; поводом к статье была смерть композитора А. И. Скрябина (апрель 1915; доклад «Скрябин и христианство» ОМ читал потом в Петербургском религиозно-философском обществе) и, вероятно, брошюра В. В. Гиппиуса, учителя ОМ, «Пушкин и христианство» (1915). Гиппиус изображал Пушкина человеком, погруженным в чувственность, но рвущимся из греха к искуплению и в этом подобным герою античной трагедии. ОМ изображает Скрябина таким же безумствующим эллином ( Федра-Россия, по-видимому, точно так же ищет искупления за грех чувственности), но более далеким от искупления, оттого что за XIX век Европа еще дальше отошла от христианства, впав в теософию и «буддизм» (см. «Девятнадцатый век»). В набросках к статье ОМ еще резче противопоставляет облагодатствованную Элладу ( христианство эллинизирует смерть ) и угрожающие ей безблагодатные Рим и иудейство («Рим железным кольцом окружил Голгофу… Нужно спасти Элладу от Рима. Если победит Рим – победит даже не он, а иудейство – иудейство всегда стоит за его спиной и только ждет своего часа – и восторжествует… обратное течение времени – черное солнце Федры…»). Истинное же христианское искусство не нуждается в искуплении, оно уже искуплено и обладает полной свободой акмеистического «искусства для искусства», – даже когда оно обращается к духовным темам, это лишь игра, переигрывание пережитого («Божественная игра» – заглавие финала 3-й симфонии Скрябина), не искупление, а иллюзия искупления. Хилиазм – вера в тысячелетнее царство Божие на земле перед концом света, схожая с утопическими чаяниями Скрябина; кафолическая радость – вселенская ( синтез музыки и слова – ода Шиллера «К радости» в Девятой симфонии Бетховена), ср. «Ода Бетховену». Антигона в трагедии Софокла погибает за то, что вопреки царскому указу похоронила тело брата. Мусикийские камыши, мыслящий тростник – из Тютчева, «Певучесть есть в морских волнах…».
Революция и разруха гражданской войны заставила ОМ пересмотреть понятие об акмеизме: на первый план выдвигается уже не «любовь к организации», а «любовь к организму». Разрыв с прошлым был резок, «организация» нового была сомнительна, единственным неотнятым достоянием остался язык, он и стал казаться ОМ залогом единства русской культуры. Плотская вещественность (до сих пор – атрибут предметов внешнего мира) и внутренняя свобода (до сих пор – атрибут самого поэта) стали свойствами языка как такового. ОМ по своей привычке все лучшие качества считать эллинскими назвал это эллинистичностью русского языка (может быть, сыграла роль память о гомеровских поэмах с их подробным описанием предметов). Об этом – его новая программная статья О природе слова. Язык есть непосредственное переживание культуры как события (как времени, по Бергсону; впрочем, сравнение с веером у Бергсона относится не к переживанию-интуиции, а к осмыслению-интеллекту). Язык, будучи живым и органичным, сопротивляется всякому насилию: прикладному употреблению для быта, прикладному употреблению для идей, особенно – практике символизма, когда словам-образам навязываются иносказательные значения-намеки. Язык приравнивается к домашней утвари, литература ( «филология» ) к семейному обиходу. Образцом органической культуры языка объявляется В. Розанов, с некоторой натяжкой – И. Анненский. Наконец, органической школой русской лирики объявляется акмеизм: ему приписывается (с еще большей натяжкой) ряд новых вкусовых ощущений – вкус к целостному словесному представлению, образу в новом органическом понимании. Этот вкус перестраивает всю систему литературных и даже внелитературных ценностей, выдвигает вновь высокую классику и учит читателей быть даже не гражданами, а мужами. (Через год ОМ писал Л. В. Горнунгу в августе 1923 г.: «Акмеизм 23 года – не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь «совестью» поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия»). Однако заканчивает статью ОМ более традиционалистически: поэт-акмеист – это прежде всего цеховой ремесленник-мастер Сальери, товарищ по работе всем делателям вещей. Статья вышла отдельным изданием в Харькове в 1922 г., с эпиграфом из стих. Гумилева «Слово», поставленным харьковскими издателями. Журден – комический герой «Мещанина во дворянстве» Мольера. Нет старта, куда нужно скорее других доскакать – характерная обмолвка вместо «финиша». Виопа pulcella Jut Eulalia… – начало стиха о Св. Евлалии, старейшего памятника французской поэзии (IX в.). Как мерзла быстрая река… – из «Цыган» Пушкина, Как сердцу высказать… – из «Silentium» Тютчева, Alles Vergängliche… – из финала «Фауста», Поймите, к вам стучится сумасшедший… – из стих. «Кошмаров» Анненского, На темный жребий мой… – из стих. «Вечером» Вердена в переложении Анненского, Хочу, чтоб всюду плавала… – из «З. Н. Гиппиус» Брюсова, «лес соответствий» – из «Соответствий» Бодлера.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу