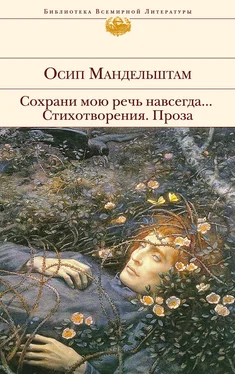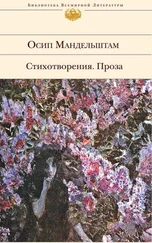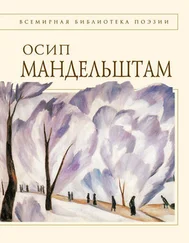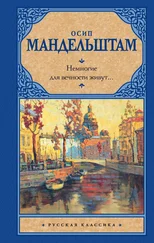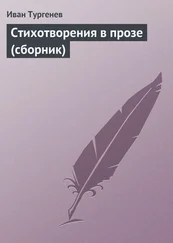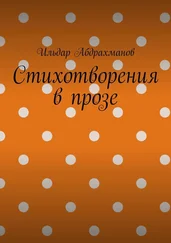Конец 1931 г. занят работой над «Путешествием в Армению». Первым после этого возникает стих. «О, как мы любим лицемерить…»с его двоякой концовкой (ср. раньше в стих. «Я не знаю, с каких пор…» и потом в воронежских «двойчатках»). Возвращение к мотивам «детства», может быть, связано с проектом несостоявшегося переиздания собрания своих стихотворений; обиду тянет – надувает губы. За этим обобщенным воспоминанием о детстве следует более конкретное – «Когда в далекую Корею…»: оранжерея в Тенишевском училище на галерее над двором с поленницами дров; смешливая бульба – кадык, адамово яблоко; Тарас Бульба и Троянский конь – как школьное чтение; русский золотой – экономическая политика России в Маньчжурии и Корее, ставшая причиной русско-японской войны; флагманский броненосец «Петропавловск» (с адмиралом С. Макаровым и художником В. Верещагиным) подорвался на мине в марте 1904 г., при Цусиме была разгромлена II Тихоокеанская эскадра в мае 1905 г.; хлороформ, воспоминание о военных лазаретах, ассоциируется с царевичем Хлором из поучительной сказки Екатерины II ( К царевичу… Хлору – строка из «Фелицы» Державина, тоже школьного чтения). Вывод: не разбойничать нельзя, поэт всегда – нарушитель спокойствия. Продолжение прошлогодних стихов о Москве – «Там, где купальни, бумагопрядильни…», стихотворение о недавно открытом Парке культуры и отдыха (с Нескучным садом ) на Москве-реке; почтовым пахнет клеем – от ближней кондитерской фабрики «Красный Октябрь», вода на булавках – от поливальных цистерн. Ока и Клязьма упомянуты в связи с началом работ на канале Москва – Волга, который должен был пополнить водой Москву-реку и Яузу; от созвучия – ряд образов Ока – (око) – веко – ресница. С. А. Клычков (1889–1937) – крестьянский поэт и прозаик, в это время сосед и приятель ОМ по писательскому общежитию в Доме Герцена.
Завязавшаяся в Армении дружба с биологом Б. С. Кузиным (1903–1973) и его друзьями-неоламаркистами послужила толчком к стих. Ламарк(впрочем, Кузину оно не нравилось) – ср. гл. «Вокруг натуралистов» в «Путешествии в Армению». По Дарвину, эволюция была результатом пассивного выживания организма в среде, по Ламарку (1744–1829) – результатом активного, волевого приспособления организма к среде; последнее больше импонировало ОМ, поэтому Ламарк – за честь природы фехтовальщик (в молодости он был военным). Картину зависимости организмов от среды Ламарк иллюстрировал лестницей от сложнейших к простейшим, особо отмечая ( разломы ), как исчезновение потребности в органе вызывает исчезновение позвоночника (вместо спинного появляется продольно-узловой мозг ), крови ( красное дыханье ), органов зрения и слуха; это и изображает ОМ. Современники однозначно видели в этом картину вырождения человека при советском режиме: жизнь на земле – выморочная, не имеющая наследников. Кольчецы и усоногие – кольчатые черви и низшие ракообразные, выделенные Ламарком в отдельные классы; протей – безглазое земноводное, названное по греческому морскому богу, умевшему менять свои обличья.
Тема «Ламарка» продолжается в цикле Восьмистишия – подборке отрывков ненаписанных или недописанных стихотворений с не установленным до конца порядком (работа над ними продолжалась в Воронеже): как животное активным усилием формирует орган своего тела, так человек создает произведение искусства. Приблизительная логика цикла такова. (10) «В игольчатых чумных бокалах…»:причинность, детерминизм, временная зависимость – иллюзия, в мире малых величин она не действует, постылые время и вечность лишь сковывают, как люлька, мир живых пространственных явлений. ( Бирюльки – куча маленьких, как ноготь, игрушечных предметов, цепляющихся друг за друга; их нужно расцепить крючьями, не разрушив кучи). (11) «И я выхожу из пространства…» – из этого тесного пространства в дикую, необжитую бесконечность, по ту сторону причинности, чтобы лицом к лицу встретить как задачу вызов природы. (5) «Преодолев затверженность природы…»( голуботвердый – слово из стихов на смерть Белого): природа живет в непрерывном стонущем напряжении, и это напряжение, изгибая прямой путь, создает из него новое, избыточное и поэтому творческое пространство. Отсюда две линии ассоциаций. Первая линия: (4) «Шестого чувства крохотный придаток…»(ср. стихи Гумилева о том, как дух и плоть «рожда‹ют› орган для шестого чувства») – это творческое развитие совершается стремительно, как по приказу-записке, ради этого оставляя без внимания возможности других путей, где органами неиспробованных шестых чувств могут быть реснички инфузорий или недоразвитый теменной глазок ящерицы. (7) «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…»(имеются в виду «Баркарола» Шуберта и привычка Моцарта держать дома птиц в клетках) – этот приказ, потребность, функция, идея нового органа предшествует его физическому явлению: потребность толпы побуждает творца к творчеству, шепот предшествует губам, как листы деревьям (о том, что наука предшествует интеллекту, писал Бергсон). (9) «Скажи мне, чертежник пустыни…» – так стимул вызывает ответ, а ответ становится новым стимулом: бестелесный лепет и ваяемый опыт взаимообусловливаются и так рождают форму, которую не стереть ветрам. Вторая линия ассоциаций: от образов лепестка и купола (5), т. е. природы и культуры, – (8) «И клена зубчатая лапа…»,живой купол Айя-Софии с круглыми углами подкупольных парусов и изображениями многоочитых шестикрылых серафимов, похожих очертаниями на бабочек. Отсюда отступление (3) «О, бабочка, о, мусульманка…»,портрет бабочки, рождающейся из савана куколки, похожего на мусульманское покрывало. Оба разветвления мысли сходятся в стих. (6) «Когда, уничтожив набросок…»:как каменный купол, так и словесный период (сложно уравновешенное предложение), будучи создан, держится собственной тягой, не опираясь на наброски. (2) «Люблю появление ткани…»:а наброски эти при выговаривании были похожи на короткие астматические вздохи, вдруг завершаемые вздохом во всю грудь ( дуговая растяжка – выражение из «Путешествия в Армению» о силовом поле вокруг эмбриона, по Гурвичу). (1) «Люблю появление ткани…»:и этот вздох рождает новое пространство, открытое, сотворенное, не знавшее люльки- причинности. Предлагались и другие расположения и интерпретации этих трудных стихотвореньиц; сам ОМ ограничивался замечанием, что это стихи «о познании».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу