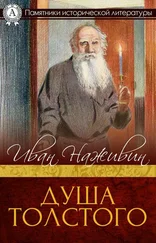И если знать и дворянство «с рабским подобострастием припадали к священным стопам великой Фелицы», а потом, опускаясь все ниже и ниже, стали почитать уже за счастье целовать руки любовницы Аракчеева Настасьи, то, точно мстя за свое холопство это, еще большего холопства требовали они от своих бесчисленных рабов. Мужик был двуногой «скотиной без рогов», которая открыто продавалась на ярмарках наряду со скотиной рогатой. Рабы проигрывались за карточным столом. Дамы высшего общества, по словам Массона, «воспитывали» своих крепостных девок специально для разврата. Он же рассказывает об одном гвардейском жеребце, который, проиграв все, отправился для поправки своих дел в свое поместье, распродав там предварительно всех мужиков. «Мне только двадцать пять лет, – говорил этот жеребец, – я очень крепок, и я займусь там заселением своих земель. Чрез какие-нибудь десять лет я буду отцом нескольких сот своих крепостных, а чрез пятнадцать лет я пущу их в продажу…»
Продавались тогда люди совсем не дорого: за борзого щенка от хороших «злобачей» господа платили иногда до трех тысяч рублей, а за крестьянскую девушку от трех до тридцати рублей. Ребенка можно было купить за гривенник. Зато «спецы» ценились высоко: хороший повар или музыкант стоил рублей восемьсот и выше. За своих актеров граф Каменский отдал целую деревню в двести пятьдесят душ, а двадцать музыкантов своих он продал за десять тысяч рублей. В просвещенный век Екатерины в газетах часто мелькали объявления: «Продается малосольная осетрина, сивый мерин и муж с женой», «Продается парикмахер, а сверх того четыре кровати, перины и прочий скарб», «Продается 16 лет девка доброго поведения и немного поезженная карета», «Продается повар, кучер и попугай»…
Труд крепостных не считался ни во что. Захотелось графу А.К. Разумовскому послушать соловьев во время разлива, и вот сгоняются тысячи его верноподданных, чтобы для графского проезда в пойму выстроить немедленно дамбу. И если не все русские Мирабо того времени хлестали своего Гаврилу за измятое жабо в ус и в рыло, то все они за бутылкой шампанского могли вести возвышенные разговоры до рассвета в то время, как их «хамство» боролось со сном на жестоком морозе…
«Глупость и крайнее безрассудство этого подлого народа» помещики презирали до глубины души, и единственным лекарством против этого были плеть и кандалы. Эти уездные сатрапы не знали в самодурствах своих никакого предела: если мужики вовремя не набрали заказанной им земляники в лесу, барыня ставила сотню их под плети. Чтобы не поганить своих барских ручек о хамскую рожу, другая барыня изобретала особый инструмент для пощечин, который назвала «щекобиткой». Эстляндский губернатор Дуглас сек крестьян в своем присутствии и истерзанные спины их приказывал посыпать порохом и зажигать. Княгиня Козловская, одна из русских Мессалин, секла по грудям, по половым органам, привязывала голых крестьян к столбам и травила их собаками, а горничную, которую приревновала она к своему любовнику, она всю исколола булавками, а потом, не довольствуясь этим, собственноручно разорвала ей рот до ушей… Графиня Салтыкова, жена воспитателя Александра I, целых три года держала своего парикмахера в клетке, чтобы он как-нибудь не разболтал, что она… носит парик.
Повесив голову, Дуня почерневшей уже дорогой шла к усадьбе и не замечала ликующего весеннего дня. Вокруг все было еще бело, но солнце слепило уже по-весеннему, и слышалось под сугробами бульканье и звон невидимых ручьев, и по первой бурой проталине на взлобке, на припеке, уже расхаживали черно-блестящие, точно вымазанные маслом, грачи с белыми носами…
Войдя в ворота, – по двору бродили, радуясь солнышку, куры, индейки, гуси… – Дуня увидала, что кучер Петр, щурясь от солнца, держит в поводу оседланного Малек-Аделя. Лошадь была немудрящая и плохо вычищена, и неказисто было не раз чиненное седло с порыжевшей кожей, но молодой барин был не очень взыскателен на этот счет…
– Откуда Бог несет? – лениво спросил Петр Дуняшу.
В это время хлопнула дверь на террасе, и с хлыстиком под мышкой, надевая на ходу перчатки, на крыльцо вышел Пушкин. «Опять в Тригорское… – пронеслось в голове Дуни, и ее сердце жгуче укусила ревность: хоть бы в прорубь, что ли, и всему бы конец…» А Пушкин вскочил в седло, с улыбкой помахал Дуне рукой и поехал со двора.
Сегодня его расстроили. В доме с утра кипела революция: вся дворня, с Ариной Родионовной во главе, подняла, наконец, знамя восстания против засилья Розы Григорьевны, немки, жены управляющего Рингеля. Сергей Львович, устав от русских воров и наслышавшись о немецких добродетелях, поставил во главе всех запутанных дел своих немца, но Рингель оказался почище всех своих русских предшественников. Самому же Сергею Львовичу за делами смотреть было некогда: он был человек светский. Пушкин сделал экономке суровый выговор, а она отвечала ему дерзостью. Вскипев, он велел предъявить ему «все щеты», хотя он и сам не знал, что он под этим разумеет. Но, раз начав быть хозяином, он пошел до конца: составил комитет из трех старых дворовых, велел перемерить в амбаре хлеб и открыл, как ему казалось, несколько утаенных четвертей. Он выгнал Розу Григорьевну к чертовой матери, взял бразды правления в свои руки и – не знал, что делать дальше. Он засмеялся и, написав брату Льву о революции и восстановлении порядка, решил ехать в Тригорское на блины…
Читать дальше
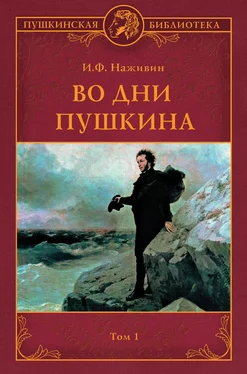
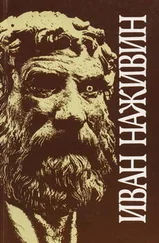
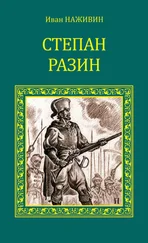
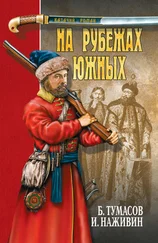
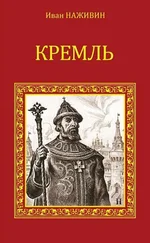
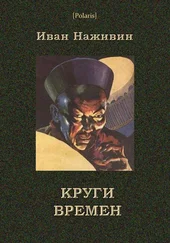

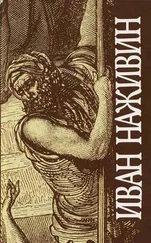

![Иван Наживин - Глаголют стяги [litres]](/books/416283/ivan-nazhivin-glagolyut-styagi-litres-thumb.webp)