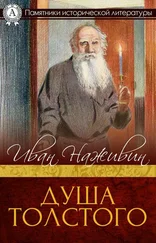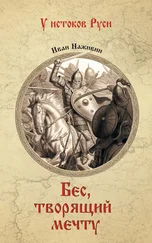Патриоты тем временем торопились представить правительству счета о потерях и убытках: граф Головин предъявил счет на 229 000 рублей, граф И.А. Толстой на 200 000; от них не отстали князь Голицын, князь А.И. Трубецкой и многие другие… В список своих потерь княгиня Засекина внесла 4 кувшина для сливок, 2 масленки и чашку для бульона; дочь бригадира Артамонова требовала уплаты за утерянные новые чулки и шемизетки, а какая-то дама поставила в счет 380 рублей за – сгоревших канареек… Полиция же московская, не предъявляя никаких счетов, собственноручно грабила Москву и окрестные имения, причем граф Растопчин при разграблении магазина шикарной портнихи, француженки Шальмэ, выбрал себе красивый сервиз…
Страшная трагедия закончилась омерзительно-пошлым водевилем…
Так зачем же все это было?
Неизвестно!..
Александр тяжело вздохнул. Он понял, что сна уже не будет. Совсем уже рассветало. И он, разбитый, с горячей головой, с неприятным вкусом во рту, встал, чтобы начать свой обычный день. Эти каторжные работы власти теперь были тем более невыносимы, что теперь-то он уже наверное знал, что никакого толка из всех его трудов не будет. И в тысячный раз он подумал: «Единственное, что надо сделать, это – уйти…» Раньше его тревожила мысль о последствиях такого шага, – кто станет на его место, как это отзовется на России? – но теперь он понял, что, кто бы на его место ни стал, что преемник его ни делал бы, результат будет один и тот же: бессмыслица и кровь. Следовательно, страшное преступление, которым он начал свое царствование, было ни на что не нужно…
Он хмуро позвонил камердинера…
И в камер-фурьерском журнале за тот день было записано:
«Его Величество изволил сегодня встать в 7,30 и кушал своей высочайшей особой завтрак в диванной комнате в 8,16».
Нудно было в избе Мирона Любимова. Жил мужик ничего себе, и вот нашла на него вдруг полоса неудач: прошлой осенью забрили лоб его сыну, который служил теперь лейб-гренадером в Питере, потом, на Николу Зимнего, корова пала, год вышел на хлеба плохой, и, в довершение всего, расшаливался на дворе домовой. Позвал было Мирон о. Шкоду молебен отслужить с водосвятием, чтобы унять маленько «хозяина», но после молебна тот разозлился и еще того хуже. Старики говорили, что добра теперь не жди. А среди мужиков опять слушок насчет Беловодии поднялся, мужицкого царства, где-то за Амур-рекой, сказывают, где мужику живется всласть: только работай… И размечтались зуевцы о далеком крае: вот бы дал Господь!.. И еще больше опостылело им их старое Зуево и вся эта неурядица и бесхозяйственность всей их жизни… Слухи эти о ту пору в народе возникали не раз – в особенности в Малороссии, где мужики поднимались сразу целыми селениями и уходили, сами не зная куда… А тут с усадьбы Дунька прибежала, племянница, сударушка молодого барина. Известно, не ее воля, а люди, между прочим, зубы-то скалят: «Плименница-то твоя, вишь, скоро барыней будет!..» И Мирон, починяя старый хомут, повернулся к Дуне спиной: будто бы темно… Дуня – сюда спасалась она от тоски, которая заедала ее в Михайловском, – тихонько вздохнула и поднялась.
– Ну, простите, Христа ради… – сказала она, снимая с гвоздя свою шубку. – Надо иттить…
Тетка вышла в сенцы проводить племянницу, и долго они с ней там шушукались, и Дуня то и дело вытирала глаза то углом платка, то передником, то рукавом: съедало девку горе… А потом, накинув шубку по скопскому обычаю на один рукав и повесив голову, чтобы не видели люди заплаканного лица, она торопливо пошла праздничной – был последний день масленицы – деревней в старую усадьбу…
Деревенька была небольшая и бедная. Угодья были плохие: и земля родить могла бы, и лес был, и озера рыбные, и хорошие покосы по Сороти. Но мужики жили серо. Причин этому было три: крепостное право, которое связывало их по рукам и по ногам, власть «мира», которая была горше власти барина, а всего хуже – плохие хозяева, не жестокие, не жадные, а бесхозяйственные люди, которые не любили и не понимали ни деревни, ни народа, ни работы. И потому зуевские мужики чувствовали себя, как пчелы в обезматоченном улье…
Со смертью Петра русский двор, попав в женские руки, точно совсем потерял голову. Роскошь и мотовство – по-тогдашнему сластолюбие – достигли своего апогея при немке Екатерине II. Петербургское общество того времени князь Адам Чарторижский сравнивал с преддверием огромного храма, в котором присутствующие устремляли все свое внимание на божество, сидящее на престоле, и приносили ему жертвы и воскуривали фимиамы. Безумия российской Версалии заражают знать, а чрез знать и все дворянство. Напрасно «немецкая мать русского отечества», окруженная своими любовниками, заботится о нравственности общества, напрасно торжественными манифестами и указами борется она против их прихотей и расточительности, сластолюбие ползло по всей России и разоряло помещиков, а, следовательно, и крестьян. Иногда это «сластолюбие» служило подлому народу на пользу. Так, когда князь Голицын проиграл все свое состояние и даже жену, – последняя досталась графу Разумовскому, – его двадцать тысяч крестьян заплатили долги барина и тем откупились и вышли на волю. Но в огромном большинстве случаев «сластолюбие» это ложилось на них тяжким гнетом, как это было, например, в Костромской губернии, в имении матери А.С. Грибоедова, где крестьяне, выведенные из терпения невыносимыми поборами, заволновались и получили в награду – военную экзекуцию…
Читать дальше
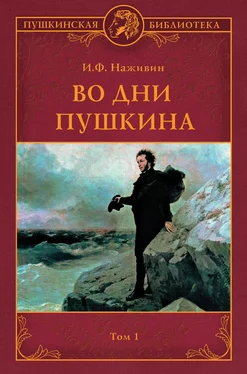
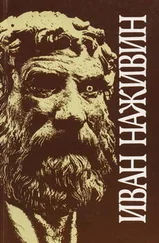
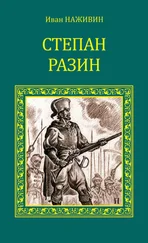
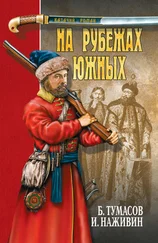
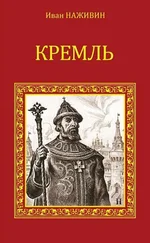
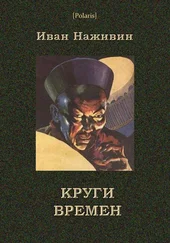
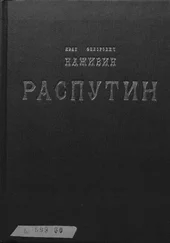
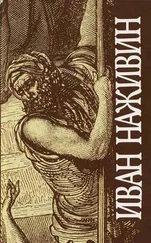
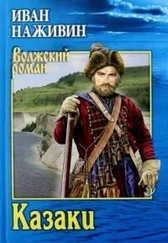
![Иван Наживин - Глаголют стяги [litres]](/books/416283/ivan-nazhivin-glagolyut-styagi-litres-thumb.webp)