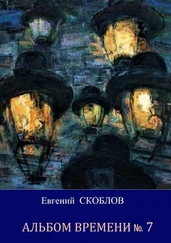– Да, оно-то так, но есть и мужчины, которые не выносят дыма, тем более махорочного.
– Мы – не в мягком вагоне, привыкли выносить всё, – махнув рукой, сказал я.
Прикурив самокрутку, он с удовольствием затянулся ароматным дымком, затем, поглядев на меня внимательно, протянул руку:
– Будем знакомы, Иван Семёнович, поэт.
Я пожал его небольшую кисть с длинными тонкими пальцами:
– Магомед-Гирей, историк.
К тому времени в вагоне почти все перезнакомились друг с другом и предались беседам в клубах махорочного дыма.
Весёлый по характеру не унывающий, Иван Семёнович оказался словоохотливым собеседником. Этот, как я убедился, интеллектуал, не лишённый тонкого юмора, несмотря на свою серенькую внешность, становился ярким и каким-то необыкновенным, как только начинал говорить. Быть может, так казалось. Мне нравились остроумные люди, умеющие вести себя, не подчёркивая своего превосходства и не унижая достоинства других. Я сразу почувствовал, что общение с этим человеком будет доставлять мне удовольствие.
Немногие люди бывают самокритичны. Большинство из них, – в особенности посредственные и ограниченные – влюблены в себя, не сомневаются в своём превосходстве над остальными.
Не зря сказал какой-то мудрец, что дурак, осознающий, что он дурак – не дурак. К счастью, я тоже часто сомневался в своих умственных способностях, относил себя к людям обыкновенным и твёрдо помнил арабскую поговорку – жизнь, от колыбели до могилы, есть наука.
Мне доставляло удовольствие общение с умными людьми – в особенности со стариками, умудрёнными опытом и знанием жизни, теми, кто превосходил меня.
В том, что Иван Семёнович превосходит меня в образованности, культуре, я понял с первого часа и потянулся к нему. Однако внешне я старался держаться независимо, не желая поддаваться первому впечатлению.
Прекрасно знал Иван Семёнович литературу – классическую, отечественную, зарубежную, современную, историческую, западную и восточную, европейскую и азиатскую. Он хорошо разбирался в юриспруденции, истории, астрономии, библии, музыке.
Этот тщедушный, ничем не приметный внешне человек в течение нескольких дней завладел душами почти всех временных обитателей пульмана. Его правдивые и вымышленные весёлые рассказы и анекдоты на все случаи жизни можно было слушать сутками. Подносил он их артистично, меняя говор, интонации голоса, акцент. Вызывая гомерический хохот, он никогда не смеялся сам.
Ехали мы долго. Как я уже говорил, нас пересаживали в другие поезда под покровом глухой ночи. Но однажды, на безлюдном полустанке, затерянном в бескрайних заиндевелых степных просторах Севера, нас высадили днём.
С хмурого неба просеивалась сухая крупа. Дул пронизывающий холодный ветер. Небольшое помещение «зала ожидания» было битком набито арестантами, прибывшими сюда с другими составами.
В помещении царил полумрак. Густой махорочный дым вместе с испарением вываливался клубами наружу, как только кто-нибудь распахивал дверь. Запах кислого пота и всякого курева разил вошедших. Но эти одуряющие арестантские «ароматы» переносились легче, чем леденящий холод.
Наша группа с трудом протиснулась и стала около дверей. Мы старались держаться друг возле друга, ибо большинство прибывших раньше нас размесились по углам, поглядывая в нашу сторону, как неприветливые хозяева на нежеланных гостей.
Около часа мы переминались, стоя, с ноги на ногу в ожидании этапа.
Полустанок был расположен на небольшом расстоянии между полотном железной дороги и речным причалом. Через некоторое время со стороны реки раздался гудок Люди оживились, потянулись к окнам, к двери. Вскоре раздалась команда, относящаяся к одной из групп арестантов. Они повставали с мест и устремились к выходу.
Мы расположились на освободившемся месте на полу – единственная огромная скамья, тянувшаяся вдоль окон, была занята, как мы позже узнали, уголовниками. Последние чувствовали себя здесь хозяевами, громко разговаривали, пересыпая речь отборной матерной бранью. Они резались в самодельные карты и, с пренебрежительной иронией поглядывая на нас, на блатном жаргоне перебрасывались словами.
На этом полустанке впервые обратил внимание на более обходительное обращение конвоиров с уголовниками и вообще на их «привилегированное», если так можно сказать, положение по сравнению с нами – политическими.
Здесь, как «чужой», даже Иван Семёнович притих. Он уселся и, вытянув ноги рядом со мной, с нескрываемым любопытством, не открывая глаз, смотрел в сторону блатных, крепко прижав к животу вещевой мешок.
Читать дальше
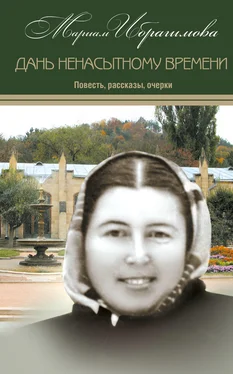






![Всеволод Сысоев - Удивительные звери [Повесть, рассказы, очерки]](/books/397920/vsevolod-sysoev-udivitelnye-zveri-povest-rassk-thumb.webp)
![Михаил Алексеев - Да поможет человек [Повести, рассказы и очерки]](/books/413480/mihail-alekseev-da-pomozhet-chelovek-povesti-rassk-thumb.webp)
![Сергей Борзенко - Огни Новороссийска [Повести, рассказы, очерки]](/books/414124/sergej-borzenko-ogni-novorossijska-povesti-rassk-thumb.webp)