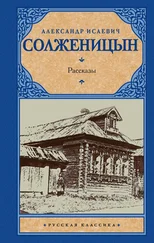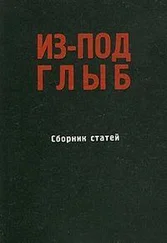Юшки-юшки-юшки-юшки,
Чемберлен сидит в кадушке,
А мы его по макушке! –
Вай, вай, вай!
Помятое кислое лицо Дашкина смягчалось, расправлялись язвенные морщины у губ, когда он вспоминал их деревенскую избу-читальню (свою собственную неухоженную избу он не вспоминал) и первую лампочку Ильича под её белёным потолком{274}, посветившую всего два вечера, потом заменённую более надёжной керосиновой, и заседания комъячейки, помалу наскрёбанной из четырёх деревень, – заседания всегда закрытые и с прениями до утра. Больше всего, конечно, в этих воспоминаниях и в этом времени он любил себя самого, – но многие ли умеют стать выше? А Нержина всякий новый рассказ об этой странной поре русской истории мучительно волновал – Глеб всегда жалел, что не родился раньше, чтобы это неповторимое семилетие противоречивых надежд, цветения и увядания, космических пыланий и умирающего скепсиса пропустить через свою грудь.
И уже по какой-то инерции Дашкин всё с той же озорливой нахвастью рассказывал о событии, в котором ничем не мог гордиться, кроме быстроты своих ног: как в 29-м году, работая комиссаром по хлебозаготовкам, уже грозой района, он приехал в соседнее непокорное село и созвал сходку. На сходку сошлись только женщины – но уж зато все, сколько было их по дворам, – от старух до девчёнок. Видя, что мужчины саботируют, Дашкин решил припугнуть баб – с крыльца он кричал на них, тряс над головой револьвером и велел передать мужикам свои безпрекословные распоряжения. Но в ходе речи он заметил, что бабы не плачут, не пугаются, не задают вопросов, а обмыкают его молчаливым грозным полукольцом. У передних баб были видны закушенные губы и засученные рукава. Кто-то из задних баб схватился за удила его лошадей. Кучер первый понял опасность – рванул лошадей и поехал, не дожидаясь комиссара. Но сразу и Дашкин понял, что это – смерть, и безпощаднее мамонтовской конницы, что суд и ряд уже был, и бабы без боязни его разорвут, и никто их не будет за то судить. И Дашкин взмахнул на боковые перила, выстрелил дважды над головами и прыгнул в расступившийся проход. Споткнулся. Тот короткий миг, что поднимался с колен, уже почувствовал рвущие пальцы в своих волосах и кулаки, молотящие по спине. Извернулся, оброня револьвер, и побежал что мочи за телегой. То, что должно было погубить Дашкина, спасло его: отсутствие мужиков. Дурные бабы бросились за ним стадом. Одна смекнула подобрать револьвер и ляпнула наугад, но попала не в Дашкина, а в ногу другой бабе. Добрая половина преследующих быстро отстала, и только вопельным рёвом настигла трепещущие, как у зайца, уши Дашкина.
– Сам бегу, а сам оглядаюсь – бегуть, бегуть проклятые, десятка два. Какая платок обронила, волосы разъерошила – бегуть гадюки, шагов двадцать до передней. А кучер-милиционер по-о-оняет впереди и тож назад глядит, – он бы пристал, да бабы набегут. А на мне сапоги хромовые новые – но просторные дюже: не с меня, с кулака одного, дружок в ГПУ служил, мне за пол-литру уступил. Спадают с ног, вот тебе елозят. А бабы стигнут. И сапоги жалко, а жизнь дюжей. Чудок оторвусь, стану, скину сапог – опять бегу, потом другой. Как скинул – куда полегчало. А баба передняя за спиной уже дышит. Земля от дождей – в октябре дело – мокра, холодна – я, как ангел на крыльях, и не касаюсь. Никак милиционер стать не может – баба-та рядом, сапоги мне мои же в голову кинули раз, другой, – только уха макушку каблуком срезали – и так, веришь, четыре версты гнали! Как на горушке другую деревню увидали – отстали. Отбежал я ещё чудок – сел на линейку – ай, ножечки простудил! – только тут учуял. Вот она, какая бывает революция и контра революция…
Этот рассказ слышал и Трухачёв. Огромный чернолохматый мужик в маленьком, очень тесном ему тулупе, он часто сходил со своей подводы и подсаживался к другим. Был он молчальник, не любил говорить, а слушать. Дашкин при нём, как казалось Нержину, стеснялся и рассказывал неохотно. Прослушав рассказ Мирона о комиссарстве, Трухачёв смачно плюнул в пыль дороги, сразу соскочил и ушёл, не говоря ни слова. Дашкин сверкнул в его ломовую спину глазами и доверчиво поделился:
– Это тот гад. Кулак сибирский. Ты только ушами не хлопай. Знаешь, сколько тут антисоветчиков? Нам с тобой дружно держаться надо. Правду говорят: казаки – обычаем собаки.
Да, казаки встречали обоз враждебно. Сперва казалось – это оттого, что выпадало им по домам кормить постояльцев – хоть капусты похлебать да картошки печёной заесть, а всё расход. Да от пришельцев доглядеть огород, да чтоб сено из коровника не потравили военным лошадям, да чтоб на базу не наозоровали, плетня не помяли, не заломили прясельных ворот. Но когда девчёнке, выбежавшей к обозу с криком:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/books/90723/aleksandr-solzhenicyn-russkij-vopros-na-rubezhe-veko-thumb.webp)