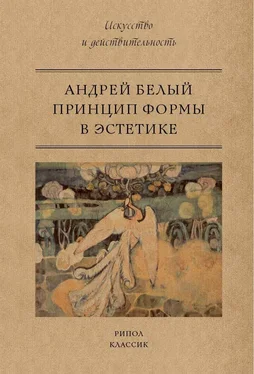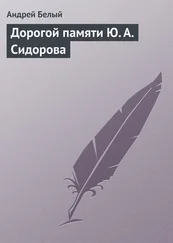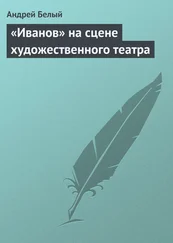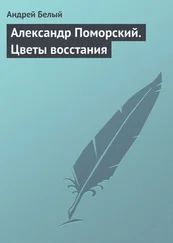В колеблющемся серебре
Бесшумное возникновенье
Взлетающих нетопырей, —
Их жалобное шелестенье…
Перед нами ямб, в котором мы едва узнаем ямб. Ударения стоят только на 1-й и 4-й стопе, а 2-я и 3-я стопа остаются полностью безударными. Поэтому, считал Андрей Белый, мы здесь будем слушать поразительную музыку, а не просто считывать готовые слова.
Такое понимание ритма, как заметил М.Л. Гаспаров в исследовании «Белый-стиховед и Белый-стихотворец», близко кантианской философии: явления не дают правильного представления о сути вещей, но мы должны собирать эти явления, исходя из интуиции, и только тогда мы сможем правильно отнестись к вещам и уяснить их для себя. Старые стихи с однообразным ритмом навязывают нам готовые образы, как будто бы ударяют по нам, заставляя принимать вещи так, как они представлены, тогда как разнообразие ритма требует интуитивно понимать, как можно синтезировать множество непредсказуемых явлений.
Андрей Белый вводил ритм и в свою художественную прозу: В.В. Набоков презрительно назвал такой способ письма «капустным гекзаметром», имея в виду и театральные капустники с их рифмованными шутками, и пирог с капустою: проза начинает выглядеть как будто набитой ритмами. Но эксперимент Андрея Белого был очень важен для развития искусства вообще и русской прозы в частности: он совпал с развитием экспрессионистской прозы в Европе и дополнял экспрессионистическую обрывочность, «монтаж» и грубость некоторой почти напевностью размышлений. Продолжателями традиции ритмической прозы Андрея Белого, которую он сам возводил к Гоголю, стали многие последующие прозаики: от Б. Пильняка и Вс. Иванова до современных нам авторов (так, например, написан недавно вышедший роман А. Николаенко «Убить Бобрыкина»). Монтаж (ему посвящено прекрасное исследование Ильи Кукулина «Машины зашумевшего времени») и ритмическая «орнаментальная» проза – два основных принципа высокой русской литературы XX века.
Но, как дальше пишет М.Л. Гаспаров, Андрей Белый расширял понимание ритма, пытаясь увидеть в нем инструмент воздействия на реальность. В книге «Ритм как диалектика» (1929) Андрей Белый рассмотрел «Медного Всадника» Пушкина как революционную поэму: сбои и искажения ритма не просто имитируют разыгравшуюся по сюжету бурю, но предвещают бурю социальную. Стиховеды скептически отнеслись к этим данным: ведь исследовать такое отклонение ритма от метрического стандарта можно только на фоне предыдущих строк, а как быть с тем, что Пушкин менял строки, добавлял и убирал целые части, редактировал себя – неужели он вредил смыслу собственного ритма? Но для Андрея Белого важна была не творческая история поэмы, а «диалектика» в смысле постоянных напряженных противоречий между разными формами одного и того же высказывания, а произведение искусства выступало для него как попытка снять эти противоречия.
Теория искусства Андрея Белого основана прежде всего на учении Ницше о музыке как первооснове любой драматической завязки. Музыка – не столько композиция, сколько некоторое настроение, мелодичность и гармоничность, которые позволяют в любом искусстве переучредить границы между формой и содержанием. Задача искусства, если говорить одним словом, это расширение понимания формы: форма должна включить в себя не только средства выразительности, но и темы, мотивы, даже предмет разговора. Например, когда мы смотрим на пейзаж, он тогда становится настоящим искусством, когда его краски не просто раскрывают для нас жизнь природы, но и показывают, сколь спокойным должно быть размышление о природе. В этом Андрей Белый расходился как с Брюсовым, который настаивал на самодостаточности формы, так и с Вяч. Ивановым, для которого форма – это вызов смыслу, а не ответ.
Символ для Андрея Белого – особый способ понимать мир, и здесь он тоже расходился и со старшими, и с младшими символистами. Брюсов сближал символы с научными обобщениями, формулами, считая, что символизм так же обеспечит прогресс в искусстве, как формулы и схемы дают прогресс в науке. Вячеслав Иванов видел в символах обращение безличного к личному, тот язык, на котором с человеком как уникальной и неповторимой личностью могут заговорить отвлеченные и общие понятия. Символы Андрея Белого как раз, наоборот, глубоко личные: это не формулы, не схемы, не средства общения или обращения – но главнейшие события жизни.
Даже если символом выступает точка или линия, или дерево или гора, это не расхожие вещи, а те вещи, из которых развернулся глубоко личный опыт, захвативший смотрящего прямо здесь и сейчас. Точка от этого не становится уникальной, но уникальным оказывается ее усилие по собственной символизации. Именно таким очень персональным и «интимным» подходом к символам объясняется интерес Андрея Белого к достижениям его собственного отца Н.В. Бугаева: писателю было важно, как математические объекты, одинаковые для любого места и времени, вдруг начинают определять функции, каждая из которых имеет свой «характер». О. Мандельштам в стихах памяти Андрея Белого назвал его «Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец», тем самым указав, как работа с самыми общими законами пространства оказывается индивидуальным опытом, опытом московского гимназиста и студента.
Читать дальше