Но теперь, прожив полгода в Риф-Пойнте, я чувствовала, как мое умиротворение сменяется беспокойством. Сколько еще продлится это чудесное бабье лето? Месяц, вероятно. А потом что? Ранние сумерки, сильные штормы, дожди, грязь и ветер. В нашем домике не было центрального отопления, только гигантский камин в продуваемой насквозь гостиной. Дрова сгорали в нем с ужасающей быстротой. Я с тоской думала об уютных ведерках с углем, но угля тут не было. Всякий раз, уходя с пляжа домой, я, как какой-нибудь первопроходец, волочила за собой брус или ветку, прибитую волнами к берегу, и складывала ее в кучу у заднего крыльца. Эта груда выросла до пугающих размеров, но я знала, что, когда наступят холода и мы начнем разжигать огонь, она быстро растает.
Домик находился прямо за пляжем, невысокая песчаная дюна служила ему единственным укрытием от морских ветров. Он был обит досками, которые поблекли со временем и стали серебристо-серыми, и стоял на сваях. Попасть в него можно было через переднее или заднее крыльцо в несколько ступеней. Внутри были большая гостиная с венецианскими окнами, выходившими на океан; крошечная, узенькая кухня; ванная комната – без ванны, но с душем; и две спальни: одна большая, «хозяйская», где спал мой отец, а другая поменьше, с койкой, вероятно предназначенной для маленького ребенка или какого-нибудь второстепенного пожилого родственника, – эту комнату отвели мне. Она была обставлена в слегка угнетающем стиле летних домиков, в том смысле, что мебель в нее, судя по всему, перекочевала из других, большего размера домов, когда владельцы решили ее выбросить. Постель отца была огромным уродливым сооружением из меди, с отсутствующими набалдашниками, а пружины издавали зловещий скрип всякий раз, когда он переворачивался с боку на бок. В моей же комнате висело старое вычурное зеркало в позолоченной раме, похожее на те, что когда-то украшали викторианские бордели, и в его отражении я казалась утопленницей, покрытой черными пятнами.
Гостиная была не намного лучше: старые продавленные кресла со стертой обивкой, спрятанной под вязаными пледами из шерсти, дырявый коврик перед камином и стулья, набитые конским волосом, который местами вылез наружу. Был всего один стол, за одним концом которого отец обычно работал, поэтому ели мы, как правило, за другим, скрючившись и сдвинув локти. Лучшим местом в доме был широкий подоконник; он тянулся во всю длину комнаты, был подбит поролоном, устлан теплыми пледами, обложен подушками и казался необыкновенно уютным, как старый диванчик в детской. На нем можно было свернуться калачиком и почитать, или посмотреть на закат, или просто подумать.
Но это было одинокое место. Ночью ветер выл и прорывался в оконные щели, и в комнатах слышались странные шорохи и скрипы, будто наш дом был кораблем, плывущим по морю. Когда отец был дома, все это переставало иметь для меня значение, но когда я оставалась одна, воображение рисовало страшные картины, подогреваемые историями о ежедневных взломах и нападениях из колонок местных газет. Сам домик был хрупким, никакие замки ни на дверях, ни на окнах не смогли бы остановить решительно настроенного непрошеного гостя. К тому же теперь, когда лето кончилось и жильцы соседних домиков упаковали вещи и вернулись туда, откуда приехали, мы остались совершенно одни. Даже Мертл с Биллом находились за добрую четверть мили от нас, а телефонная линия была коллективного пользования и не всегда хорошо работала. С какой стороны ни посмотри – обо всем, что могло случиться, страшно было подумать.
Я никогда не заговаривала с отцом об этих страхах – у него, в конце концов, была нелегкая работа, но по сути своей он был очень тонко чувствующим человеком и наверняка знал, что я могла довести себя до состояния нервного срыва. В том числе и по этой причине он разрешил мне оставить Расти.
В тот вечер после целого дня на переполненном пляже, дружелюбного солнца и знакомства с молодым студентом из Санта-Барбары дом казался мне еще более пустым.
Солнце скользнуло за край моря, подул вечерний бриз, и на землю постепенно спускалась темнота. Чтобы было не так грустно, я разожгла огонь в камине, легкомысленно бросив туда кучу дров; затем приняла горячий душ, вымыла волосы и, завернувшись в полотенце, отправилась в свою комнату за чистыми джинсами и старым белым свитером, который принадлежал моему отцу до тех пор, пока случайно не ужался при стирке.
Под зеркалом в духе борделя стоял покрытый лаком комод, который служил мне туалетным столиком. На него, за неимением лучшего, я и поставила свои фотографии. Их было много, и они занимали много места. Обычно я почти и не смотрела на них, но этим вечером все было по-другому, и, расчесывая узлы в своих длинных мокрых волосах, я изучала снимки один за другим так, будто они принадлежали человеку, которого я едва знала, и были сделаны в местах, которых я никогда не видела.
Читать дальше






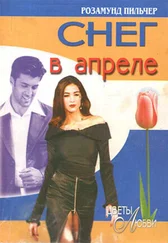



![Розамунда Пилчер - Возвращение домой [litres]](/books/412559/rozamunda-pilcher-vozvrachenie-domoj-litres-thumb.webp)

