– Как пишет!.. Как пишет…
Еще полистал.
– Кино! – выкрикнул он вдруг.
Отбросил Толстого. Толстой угодил на спинку кресла, сполз с нее, помедлил и шлепнулся на пол.
– Кино! Сейчас же пойдем в кино. Что мы торчим тут и теряем время! Его так мало… А так много хочется успеть. Нельзя терять ни минуты.
До сеанса оставался почти час.
– Куда мы пойдем?
– Погуляем, – сказала Валя.
– Я не имею права так терять время, – сказал Кирилл.
Они гуляли.
– Как обидно… как досадно… – то и дело повторял Кирилл. – Ходи тут бессмысленно. А надо, чтобы день был такой насыщенный, чтоб я его запомнил навсегда. Надо…
Валя молчала.
– Вот всегда так… – говорил Кирилл. – Всегда со мной так. Автобусы не подходят, сеансы только начались, магазины закрыты на обед, или вообще выходной день…
– Не хочешь гулять, пошли внутрь, – сказала Валя.
Кирилл долго не мог решить, брать или не брать мороженое. С одной стороны, на улице было холодно, с другой – он не знал, хочет ли он. Наконец встал в очередь, и мороженое перед ним кончилось.
И Кирилл почувствовал, что больше всего на свете ему хотелось мороженого. Больше всего на свете.
– Вот всегда так! – сказал он со злостью.
Картина ему сразу же не понравилась. Он ерзал в кресле.
– Надо уйти, – говорил он, – жалко времени.
Но сидел.
– Надо уйти, – говорил он, – встать и уйти.
Сидел.
– Ну вот, потеряли три часа, – сказал он, когда сеанс кончился. – Да я бы, будь у меня вагон времени, не стал бы сидеть. А тут, когда на счету каждая минута, – теряй, смотри какое-то дерьмо! – говорил он, имея в виду, что она, Валя, помешала ему уйти сразу, что из-за нее он потерял три часа, которых было два, и многое другое, чего он даже сам не имел в виду.
Кирилла носило по городу, как осенний лист. Вот он опал – он уже не принадлежит дереву, он уже не лист. И носится по асфальту, не в силах понять своего нового качества.
Они ездили смотреть лыжные соревнования (почему-то вдруг афиша, и надо, надо съездить посмотреть, просто удивительно, просто удивительно, как они раньше не догадались, что это как раз то, а ходили в какое-то гадкое кино и смотрели какую-то гадкую гадость). И автобуса долго не было, и соревнования почему-то задерживались, а потом оказались неинтересными, и было холодно, и снова долго не было автобуса…
И так плохо, так плохо… Когда чувствуешь собственное отчуждение, отчуждение от самого себя, от Вали, города, всего, а хочешь – наоборот, и это отчуждение… Злишься на себя, а выходит, на других. Не хочешь его, хочешь прекратить, а на самом деле все дальше отчуждаешься. Удаляешься, таешь, уменьшаешься – и вот ты уже не ты, точка, махонькая, удаленная точка отчуждения, которая сейчас исчезнет.
День – такой день! – подходит к концу… И Кирилл чувствовал, что мучает Валю, был противен самому себе, но, где-то себя потеряв, так и не мог взять себя в руки, остановить. Он искоса поглядывал на Валино лицо, усталое какой-то душевной скукой, и эта скука – он, Кирилл. Он видел это лицо, страдал, ругал себя, презирал, ненавидел, а выходило – зудел, зудел, мучал – Валю, себя. И видел, как отдаляется, отдаляется Валино лицо. И какая-то уже стена между, что-то непробиваемое, защитное, непроницаемое, и хочется, хочется пробить это, растопить этот лед собственными руками, дыханием. Ведь последний день. Последний. И он мучался, мучался, чувствовал собственное бессилие перед этой им же возведенной стеной и возводил, возводил эту стену. Это было похоже на падение: все быстрее, быстрее – и уже перехватывает дыхание.
– Ты меня не любишь, – зло и мрачно сказал Кирилл.
– Люблю я тебя… – как-то устало сказала Валя.
– Что же ты делаешь такое лицо! Нарочно хочешь мне испортить последний день?.. Ну, зачем, зачем, спрашивается, не сказать? Жалеешь меня? Думаешь, последний день – можно еще потерпеть! А там уедет. Ты думаешь, я ничего не вижу…
Так, по странному наитию, он стал обвинять Валю во всем, в чем чувствовал себя виноватым сам. И ощущая всю чудовищную несправедливость своих слов, и видя, как страдает Валя, и в то же время не давая себе увидеть это, он говорил все резче, жестче, несправедливей. Он клал последние кирпичи в стену, разделявшую их.
И положил последний:
– Не хочу. Уходи. Обойдусь. Живи, пируй. Пускай я такой! Не нужен – не надо. Уходи.
Он стоял и смотрел на огромную ровную стену, высокую, непроницаемую. Он сам ее построил. И она вышла из-под его власти. У него не было сил сломать ее. Нигде не было щели, не выпадал кирпичик… Была стена. Валя удалялась, таяла и ушла. И он стоял один перед собственной стеной, и она рушилась на него и раздавливала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
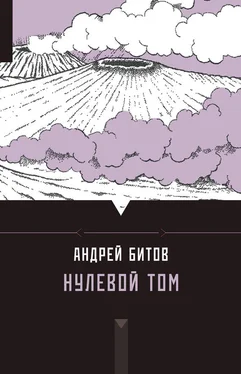



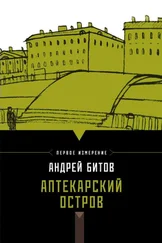



![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)