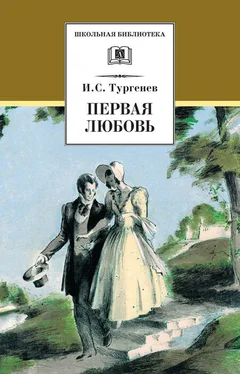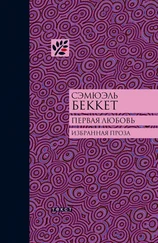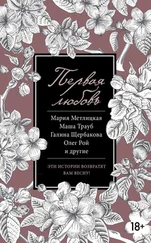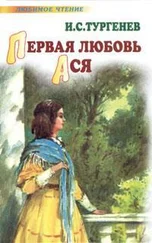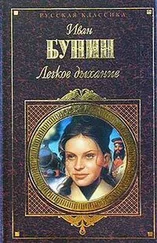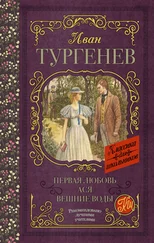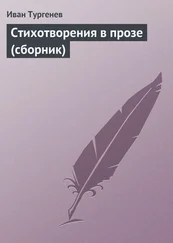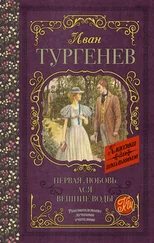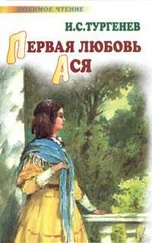Не урок благоразумия – урок жизни.
Любовь прекрасна, необходима, неизбежна, счастье близко и возможно, но его нет: любовь у Тургенева обреченно несчастлива. Нет, он не проповедует заведомо несчастливую любовь, да вот жизнь, которая занимает его, побуждает браться за перо, жизнь, которую воссоздает он в своих романах и повестях, поворачивает по-своему: она не жалует писателя примерами счастья в любви, как он, писатель, счастье это себе представляет, его герои одни обманываются, не в силах найти счастье подлинное, другие упускают волшебную птицу из рук – и поделом: они ее недостойны.
Господин Н. Н., расставшись с Асей, сетует: в минуты единственного и решающего свидания ясное сознание любви в нем еще не проснулось – оно вспыхнуло, когда уже поздно было. «У счастья нет завтрашнего дня… – прозревает он. – У него есть настоящее – и то не день, а мгновенье».
Мы и рады поверить стенаниям господина Н. Н., и сострадать ему готовы, если бы он и в самом деле хотел быть счастливым, – так нет же! Он задним умом крепок, «дела давно минувших дней» вспоминая; он, правда, бросился было по следу Аси, даже «упорствовал» в розысках, но, сам признается, «не слишком долго грустил по ней» и утешился мыслью, что не был бы счастлив с «такой» женой.
Розыски не могли быть успешными, и Ася не могла стать женой Н. Н. Он, несмотря на видимость обратного, не за Асей все время тянется, не к ней, а от нее. «…Я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала», «…неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня…», счастье «…стало возможным… я должен был оттолкнуть его прочь», «его внезапность меня смущала» – вот что господина Н. Н. томит, по рукам и ногам связывает.
После он будет корить себя: отчего не сказал в минуту свидания слово любви, но, повторись счастливое мгновенье, сказал бы? Он шел на свидание не для того, чтобы упрекать Асю за ее чистое, самоотверженное чувство; перед свиданием в разговоре с братом Аси он не отказывался и предложение сделать, даже срок взял до вечера, но, досадуя на Асю, что от него ясного решения, действия, поступка требует, как беспощадно окончил он разговор! Слово любви он нашел потом – испуганный возможностью несчастья , но прежде бежал прочь – испуганный возможностью счастья . Счастье тоже нелегкое бремя: оно требует от человека душевных сил, сочувствия, жертв. Да и ведь было дано господину Н. Н. что-то вроде попытки возвратить счастливое мгновение – ночью, после свидания, когда узнает он от Гагина, брата Аси, что она жива, что домой вернулась. «Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору…» – «чуть было», «хотел», «но»…
«Станем говорить о молодых девушках… – обращается к нам одна из тургеневских героинь (в повести «Переписка»). – Представьте себе такую девушку. Вот ее воспитание кончено… Она многого требует от жизни, она читает, мечтает… Она оглядывается, ждет, когда же придет тот, о ком ее душа тоскует… Наконец он является… Все – и счастье, и любовь, и мысль – все вместе с ним нахлынуло разом… Она благоговеет перед ним, стыдится своего счастья, учится, любит… Если б он был героем, он бы воспламенил ее, он бы научил ее жертвовать собою, и легки были бы ей все жертвы! Но героев в наше время нет…»
Уже давно, со времени первого появления тургеневских повестей и романов, в нашем, читателей, сознании сложилось понятие – «тургеневская девушка». Натура цельная, пылкая, деятельная, сама себя воспитавшая – чтением, раздумьем, мечтой, – тургеневская девушка ищет приложения развившимся в ней духовным и душевным силам, условия времени предлагают ей для того един ственный выход – любовь. Любовь для нее в эту пору не часть жизни, пусть прекраснейшая, – вся жизнь. О, как дорого ей это глубокое, искреннее, целиком захватившее ее чувство, которому надо все отдать, которое всю ее потребу ет, но которое вернет ей, по слову поэта, «целый мир в свой черед». Только бы явилась такая любовь – девушка смело бросится ей навстречу, пренебрегая предрассудками воспитания и быта!..
«Но героев в наше время нет…» Нет рядом человека, готового так же решительно и полно принять это чувство и ответить на него, нет человека, у которого бы (любил говорить Тургенев) достало сил и отваги прямо смотреть в глаза чёрту, у которого – так же, как и у той, что нашла его, – голова и сердце действуют заодно. Понятие «турге невская девушка» не сделалось бы таким отчетливым, может быть, и вообще не появилось бы, если бы рядом с героиней повестей и романов не стоял, ее оттеняя, – не противостоял ей! – тот, кого она за героя приняла; назовем его «тургеневский мужчина».
Читать дальше