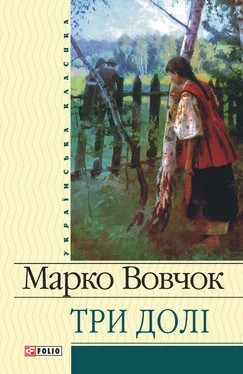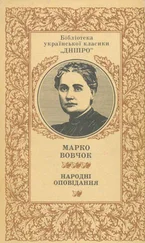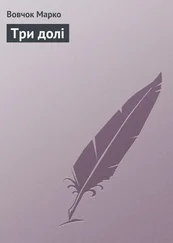– Вот это и есть товарищ мой, Иван, – сказал сечевик Марусе. – Видишь, какой: дубы в лесу перерос.
Иван, двигаясь вперед, несколько раз приостанавливался и оглядывался на товарища, как бы ожидая, не понадобится ли ему какая помощь, но в таких случаях сечевик каждый раз говорил ему:
– Иди, иди, Иване… Чего ж ты стал? Может, ты задумал собирать цветки в траве или грибов поискать хочешь?
И Иван опять двигался дальше.
Гораздо скорее, чем ожидала Маруся, выбрались они на опушку леса.
С этой стороны у самой опушки начались поля, и узенькая межа между цветущей гречихой, над которой жужжал рой пчел, сводила на черную проселочную дорогу, которая правильными, как издали представлялось, вавилонами вилась к обозначавшемуся на горизонте селению, пересекая по пути две небольшие дубровки.
– Видишь, Маруся, вот дубровка… та, последняя… Иди, моя ясочка, иди… Вот хустка…
Он показал ей точно такую же хустку, какую она раз подняла на церковном крыльце и подала гетманской пани братчихе.
Маруся взяла хустку, хотела итти, но тихо вскрикнула и остановилась.
Сечевик, который положил ей ласкающую руку на голову, вдруг зашатался и, не будь товарища Ивана, наверное бы упал.
– Кровь! кровь! – вскрикнула Маруся в ужасе.
Кровь, точно, свежая, теплая кровь просачивалась сквозь ветхую свитку старого бандуриста.
– Ничего, Маруся, ничего, – проговорил сечевик. – Помнишь, что мы с тобой говорили? Не тот козак, что за водой плывет… а тот, что против воды… Это заживет… Мы ведь с тобой пустились не ягоду малину рвать… сладкого и ждать нечего… Иди, моя ясочка… иди… Надень хустку на голову…
– А ты? – спросила Маруся, дрожащими ручками повязываясь по его совету червоною хусткою.
– Я приду, мое сердце, приду… Раздались, один за другим, три выстрела. Товарищ Иван прислушался и проговорил:
– Они!
– Иди, Маруся, иди… – повторил сечевик.
Он хотел, по своему обычаю, погладить ее по голове, но рука не поднялась. Он только проговорил:
– Иди, Маруся: надо! Она пошла.
– Оглядываться можно? – проговорила она, как бы обращаясь к отсутствующему руководителю.
И оглянулась.
На опушке уже никого не было. Лес казался сплошной зеленою стеною.
Это не помешало ей еще раз оглянуться.
Впрочем, уступая сердцу, она не забывала вверенного ей дела и шла быстро, как могла.
Вот первая дубровка, вся насквозь прохваченная пурпуром заката. Сколько здесь цветов цветет и благоухает.
Вот опять поля, опять цветущая гречиха, жужжащий рой пчел. Близехонько прокричал перепел.
Вот и мостик за дубровкой.
Кто-то будто скачет, шибко скачет.
Надо поглядеть, откуда и кто.
Похоже, как будто, на татарина. Да, таких встречали они не раз по дорогам и всегда от них прятались или в ров, или в жито.
Не спрятаться ли теперь?
Он скачет прямо к мостику. Надо спрятаться в очерет.
Но она не успела сделать и шагу к густому очерету, росшему около мостика, у берега мелкого прозрачного ручья, в виде гигантской зеленой щетки: раздался выстрел, и червоная хустка заалела на черной дороге.
Хустка эта брала только своим цветом, доброта ж ее оказалась такая, что даже жадный татарин не польстился ее снять и снова ускакал, как бы обманутый в своих ожиданиях.
Когда все стихло, из дубровки, из той, что за мостиком, вышел какой-то поселянин с топором и вязанкой зеленых сучьев за плечами и, проходя мимо, наклонился, обернул к себе помертвевшее детское личико, приложил руку к груди, под которой образовалась уже лужица теплой крови, потом, проговорив: «Нет, уж не оживешь!» – пошел дальше своею дорогой.
Он, впрочем, снял червоную хустку и унес с собою.
Давным-давно все это случилось, но до сих еще пор небольшая могила, неподалеку от этих мест, называется «Дивоча».
Говорят тоже, что могилу эту насыпал сам, своими руками, какой-то запорожец.
(Из цикла «Рассказы из русского народного быта»)
Не родись ты пригож, а родись счастлив, говорят, и правду говорят истинную! Меня в молодости красавицею величали, а счастье-то мое какое? Ох, много я изведала на своем веку! Муж у меня был буйный, грозный. А вот сестра из себя невглядная была, и слабая такая, хилая, худенькая, да талан ей Бог послал: муж в ней души не чаял, и деточки росли. Бывало, как приедет мой хмельной да разбушуется, выгонит меня – хоть на дворе мороз трещи, хоть дождь лей: ему нипочем, не пожалеет, – я пойду к сестриному окошечку, постою, погляжу… Сидит она с мужем, говорят себе любовно, тихо у них да согласно. Слава Богу, подумаю, хоть сестре талан вышел! Бывало, и не зайду к ним, не покажусь: что их собою печалить! Ведь догадаются, с какой радости поздним вечером брожу.
Читать дальше