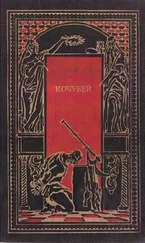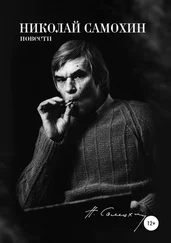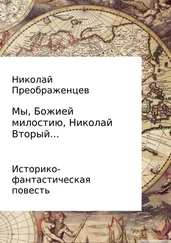Кочубей опустил голову на грудь.
– Да, дни твои изочтены, скоро повезут вас на смертную казнь.
Кочубей заплакал, возвел глаза к небу и после некоторого молчания, содрогнувшись, сказал:
– Ох тяжко мне, грешнику!.. Праведные с веселием идут на смерть… а меня ужас смертный объемлет… Помолись о мне, отче! Я погибший грешник…
Отец Иосиф начал последование к покаянию и ко святому причащению. Уничиженный Кочубей, как истомленный жаждою – воду, впивал в себя слова молитв. Лишенный всякой земной опоры – всем существом своим он погружался в милосердие Божие, не мог насытиться молитвой, сердце его изливалось в слезах умиления и сокрушения. Приступив наконец к самой исповеди, он со всею заботливостью отыскивал и малейшие прегрешения жизни своей, весь повергался в бездну милосердия Божия. Уста его не в силах были выразить радость и восторг его духовный после принятия Святых Тайн. Дребезжавший голос его только и мог произносить: слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!.. Слава тебе, Боже!.. Он целовал свои цепи, благословлял свою темницу, беспрестанно порывался преклониться долу, молился за своих губителей.
– Перекрести меня, отче, не могу креста положить.
– Ты весь на кресте своем, сын мой, благословляй Господа, – сказал отец Иосиф, осеняя его крестным знамением.
Между тем, еще до начала молитвы, отец Иосиф старался призвать и Искру к молитве; тот не спал, глядел вокруг, но ничего не видел, ничего не отвечал.
– Молись вместе с нами, пане Искро.
И действительно, пока шло последование и потом исповедь Кочубея, Искра лежал, по-видимому, без памяти, но когда Кочубей дошел до сокрушения о том, что он и других увлек заговором своим в погибель, Искра привстал и сказал:
– За мои грехи и беззакония покарал меня Господь, – не ты, пане Кочубей, сам я себя погубил…
Кончив исповедь Кочубея, отец Иосиф обратился к Искре и начал исповедовать его вопросами. Тот хотя и бессвязно, но сокрушенно каялся и в памяти принял Святые Тайны.
– Как ангел Божий явился ты к нам, погибшим, отче Иосифе! Судил же Господь, чтобы ты привел ко спасению того, который искал твоей погибели… в ню же мтьру мтьрите, возмтьрится вам!. . – произнес Кочубей, это были последние его слова.
XXVI
Багровая заря покрыла восток, прохладный утренний ветерок перелетал между кустами в лесах и струил серебряные чешуйчатые волны, и колебал отражения зеленого тростника, смотревшегося в воду. Розово-золотистый луч зари отразился на стеблях и листьях камыша, на ярко-зеленых вершинах деревьев, на цветах в каплях росы, пал на фиолетовые горы Днепра, далеко видневшиеся, и озарил ущелья их, пал на поля, покрытые волнистыми хлебами, – и все зарумянил и все озолотил. В местечке Борщаговке, на площади, где вчера старухи, казацкие жены, продавали бублики, огурцы, арбузы, яблоки, вишни, там 14 июля до восхода солнца поставили деревянные подмостки, и батуринский кат, нарочно приехавший в Борщаговку по приказанию гетмана, положил ту самую колодку, на которой он отрубил голову Григорию Самуйловичу, монаху Соломону и еще десятку-двум казакам и другим людям. Народ со всех улиц Борщаговки стекался на площадь, не зная, для кого приготовляется все это.
Взошло солнце, и на площадь приехали гетманские сердюки и обступили со всех сторон возвышение, за ними пришли пешие казаки и московская пехота и также заняли свои места, часу в восьмом начали собираться бывшие при гетмане старшины, полковники и посполитые люди.
Прискакал на коне Гамалея, а за ним генеральный обозный Ломиковский. Шум и крик народа умолкли, на возвышение взошел высокий и дюжий палач, он играл перед народом огромною секирою, народ бранил и проклинал его, палач смеялся.
Вдали на телеге везли двух скованных узников; народ бросился навстречу к телеге, желая узнать, кто такие несчастные, но не могли удовлетворить своему любопытству, один из них без чувств лежал на телеге, закрытый белым покрывалом, а другой хотя и сидел, но лицо его также было закрыто.
Гетман смотрел из окна своего замка, который одною стороною выходил на площадь. С ним была Мотренька, не зная, почему ей казалось, что большое стечение народа и такое площадное торжество может быть только при казни ее отца: сердце не обманывало ее, она смотрела на площадь, дрожала всем телом и была безмолвна. Гетман смеялся ее женской слабости и заставлял до конца остаться у окна, говоря, что казнят москаля. Матрона Васильевна не могла смотреть на это торжество, отошла от окна, в другой комнате села и душевно молилась об отце и матери.
Читать дальше
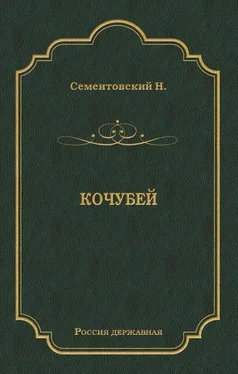

![Николай Эрдман - Письма - Николай Эрдман. Ангелина Степанова, 1928-1935 гг.[с комментариями и предисловием Виталия Вульфа]](/books/72319/nikolaj-erdman-pisma-nikolaj-erdman-angelina-stepanova-1928-1935-gg-s-kommentariyami-i-thumb.webp)