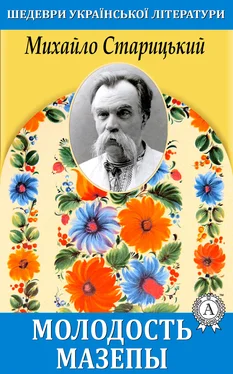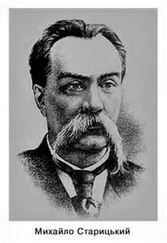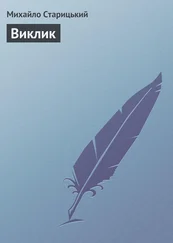Галина, посланная им, робко вошла первая в светлицу. Больной, забинтованный, одетый в белую сорочку, лежал на подушках неподвижным пластом; он был прикрыт под руки сероватым рядном; в головах у него теплился высоко на полочке «каганець»; мерцающий свет его слабо освещал хату, погружая углы ее во мрак, и падал лишь светлым пятном на лицо умирающего: теперь оно при этом освещении, оттененное разбросанными по подушке прядями темной «чупрыны», казалось еще бледнее, еще прекраснее, особенно рельефно выделялись на нем из-под смело очерченных бровей изящнейшие овалы сомкнутых глаз, опушенные почти черными дугами.
Галина долго стояла у печки, не шевелясь и не отводя глаз от больного; если бы не легкие тени, пробегавшие иногда по этому неподвижному прозрачно-восковому лицу, она бы приняла его за мертвеца… И то, в минуты полного оцепенения больного, у девчины пробегала по спине дрожь, а ноги порывались унести ее из светлицы; но Галину удерживала на месте неведомая сила: в ней чуялись – и жалость, и сострадание, и какое-то родственное влечение сердца, и страх.
Никогда она не видала еще на этом счастливом хуторе умирающих, и вот это первое страдание поразило глубоко ее чуткую душу. Глаза девушки, полные слез, приковывались к этому безжизненному лицу, молодое сердце ее волновалось впервые новой, жгучей скорбью. Да, ей бесконечно было жаль этой молодой жизни, гибнувшей от зверского насилия убийц, гибнувшей так рано. так мучительно… И Галина неподвижно стояла.
В хате было душно, пахло васильками. В мертвой тишине слышался только шум тяжелого дыхания больного, да легкое потрескивание светильни, да вздохи… Виновницей последних она была сама, но этого не замечала.
– Кто он? Откуда? За что его убили? И как, верно, будут плакать о нем мать и отец? – копошились в ее головке смутно вопросы, но она не подыскивала им ответов, а чувствовала лишь в сердце своем едкую боль, и этой боли не гнала прочь, а еще бередила: вспомнилось Галине и свое сиротство, и безвременно погибшие «ненька» и «батько». Взволнованное, потрясенное сердце ее щемило еще больнее, из глаз катились крупные слезы… – Я ж сирота, одна на свете. Вот только дид, мне бы и умирать «байдуже», а вот он, молодой да хороший – ему тяжко… да и роду его… По мне бы, коли б не дид, никто и не заплакал, а по нем, – вздохнула она глубоко и, сжав руки, произнесла громко растроганным голосом: – Господи, «зглянься»! Спаси его!..
Вошла Орыся. Галина вздрогнула, оглянулась и знаками удержала ее от болтовни, жажда к которой так и играла в ее задорной улыбке.
– Молчу, молчу, – прошептала та, подходя ближе, – нет, гарный паныч, правда твоя, – заметила она, перегодя немного, – только тот живой, чернявый, с пекучими глазами лучший.
– Страшный, «вытришкуватый», глазастый, настоящий цыган, – промолвила беззвучно как бы про себя, Галина, – а этот, такой жалкий, такой любый!
– А я бы, коли б не Остап, лучше того выбрала.
– Как выбрала? Чтоб лечить?
– Ну, вот! – засмеялась тихо Орыся. – «Чтоб лечить», – чтоб любить, да ласкать, а лечить так и этого ни к чему: все, равно умрет…
– Что ты? На Бога! – всхлипнула по-детски Галина. – Чего ты такое лихо пророчишь?
– Умрет, попомнишь мое слово, умрет, – загорячилась Орыся.
Но в эту минуту вошел Сыч, и девчата замолкли. Он осмотрел больного, ощупал его тело и одобрительно кивнул! головой, потом настоятельно потребовал, чтоб Галина ушла отдохнуть, а сам остался при больном с Орысей. Утром казаки собрались в дорогу. Несмотря на просьбу деда и его внучки Галины, Богун никак остаться не мог. Он спешил со своими товарищами по важному делу от Сирка к новому гетману Дорошенку, а Ханенко спешил в Умань. Последний перед отъездом еще раз зашел в светлицу, взглянуть днем на больного, метавшегося в беспробудном сне, и подтвердил, что он не ошибся, что это именно тот самый, которого он видел и добре запомнил.
– Так ты бы, голубе сизый, расспросил других, кто он, – сказал Сыч, – дал бы его родным знать, а то не ровен час… Надея-то у меня есть на Бога, да что-то несчастному память забило – не зашиб ли ему головы на бегу как-либо конь? Ханенко обещал на обратном пути из Умани все разведать. Богун, обнявшись несколько раз горячо с Сычом, поцеловал в голову его внучку и подарил ей на «бынды» и на манисто пять дукатов; но этот подарок не обрадовал, как прежде бывало, девчины; она поцеловала дядька полковника в руку и стояла тихая да печальная с глазами, полными слез.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу