Тем временем Вальдемар встал и взял шляпу. Он поблагодарил барона и попросил позволения, в случае серьезной размолвки с родней, повторить свой визит.
Отправляясь к барону Папагено, Вальдемар хотел услышать его мнение по важному для себя делу, но спешить с этим делом отнюдь не собирался. Напротив, он планировал подождать, отодвинуть его хотя бы на несколько дней, такой уж у него был характер. И только поощрительный тон барона, и хорошее настроение, в котором он пребывал, внушили ему мысль немедленно нанести визит дяде. Так что он повернул с площади Цитена на Мауэрштрассе и, проходя мимо дворца Кёнигсмарк, взглянул вверх на окошки третьего этажа (там когда-то, давным-давно, обитал его друг, с которым он проболтал немало счастливых часов). Повернув еще раз на другую улицу, он остановился перед старомодным, но впрочем хорошо сохранившимся и аккуратным домом, весь верхний этаж которого уже много лет подряд занимал его дядя. Швейцаров в доме не было, но вместо них имелась целая система зарешеченных дверей. Когда внизу (то есть в парадном, оснащенном разного рода металлическими табличками с витиеватыми фамилиями) раздавался звонок, вся система иногда распахивалась целиком, как бы под действием какой-то загадочной пружины. Но иногда она не распахивалась. В последнем случае посетителю приходилось звонить на каждом этаже. И тогда из каждой решетчатой двери высовывалась похожая на сову кухарка и устраивала посетителю экзамен, тем более неприятный и придирчивый, что вопрос задавался только строгим взглядом. Вальдемар слишком давно и слишком хорошо изучил устройство парадных лестниц в старых берлинских домах, и этот ритуал не раздражал его. Но сегодня система преград имела для него определенное значение, и каждая зарешеченная дверь казалась ему предостережением: «Лучше не пытаться». Между тем запас принесенного с собой мужества пересилил сомнения и, в конце концов, привел его к третьей и последней решетчатой двери, у которой его с несколько неожиданной приветливостью встретил старый ворчливый лакей (разумеется, деревенский слуга, чье преображение в камердинера еще не завершилось).
– Господин граф дома и будут рады, – сообщил он. – Они смотрят медные гравюры. А когда они так сидят и смотрят, они всегда в хорошем настроении.
Слуга пошел впереди, чтобы доложить о приходе гостя, и первое впечатление у вошедшего в квартиру Вальдемара сложилось самое благоприятное. В комнате дяди его всегда встречал комфорт, обусловленный хорошим вкусом в выборе мебели и убранства, а сегодня этот комфорт возвысился до уюта. Окна были открыты настежь, и с Унтер-ден-Линден доносились звуки военного духового оркестра. Но это еще не все: на стенах играли отсветы уличных фонарей, а на большом раздвинутом элегантном пюпитре красного дерева лежала папка с гравюрами на меди, каковые старый граф прилежно и благоговейно перелистывал. На нем были панталоны в шотландскую клетку, бархатная домашняя куртка и феска с кисточкой – в общем и целом костюм довольно странный, но полностью отвечавший убеждению графа, что мир принадлежит эклектизму.
– А, Вальдемар. Soyez le bienvenu [225]. Добро пожаловать, мой мальчик. Бери стул или стань вот сюда… Впрочем, как тебе будет удобно. Ты застал меня в некотором волнении: только что «Амслер» [226]прислал мне эту папку итальянских гравюр, и я погрузился в воспоминания. Смотри…
– Мантенья.
– Да, Вальдемар, Мантенья [227]. Ты, наверное, видел оригинал в Брера [228]. Превосходно. Как это приятно, найти родственную душу. Весь свет рассуждает об искусстве, но никто о нем ничего не знает, а те немногие, кто знает, ничего не чувствуют или, по крайней мере, мало что чувствуют. Хотел бы я знать, или, вернее, не хотел бы знать, что сказал бы барон по поводу этого распятого и одновременно так странно скрюченного Христа. Мантенья, к которому я испытываю особую страсть (ты, вероятно, видел его фрески в палаццо Гонзага [229]), написал здесь тело Христово от ступни , как бы глядя на него снизу вверх, шедевр укороченности, нечто классическое, нечто небывалое, понятное дело, в своем роде. Ставлю десять против одного, что барон стал бы меня уверять, что Христос смотрится здесь как резиновый пупс. И позволь он себе подобную дерзость, это было бы еще не самое худшее. Потому что приходится признать, что во всей фигуре есть что-то от карлика или гнома, и пока я об этом рассуждал, мне пришло в голову другое сравнение, почти совпадающее с резиновой куклой. В самом деле, этот карликовый Христос напоминает мне бамбино , деревянную статуэтку младенца Христа в Арачели [230]. Ты не находишь?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

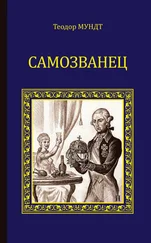
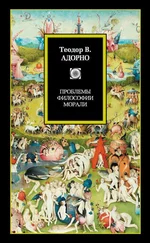





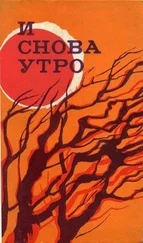


![Теодор Старджон - Брак с Медузой [сборник litres]](/books/395679/teodor-stardzhon-brak-s-meduzoj-sbornik-litres-thumb.webp)
![Теодор Драйзер - Финансист. Титан. Стоик. «Трилогия желания» в одном томе [сборник litres]](/books/431071/teodor-drajzer-finansist-titan-stoik-trilogiya-thumb.webp)