Он замолчал, устремив взгляд в пространство, но Стина, взяв его за руку, сказала:
– Как же плохо ты себя знаешь. Батрак из вашего поместья был бы счастлив жить такой жизнью. Но не ты. Мало ли, чего ты хочешь, ведь оно не получится. Одно дело – представлять себе простую бедную жизнь, а другое дело – действительно бедствовать и за все, чего тебе не хватает, болеть душой. Душа долго не выдержит, и в один прекрасный день ты почувствуешь, что я маленькая и бедная. Ах, уж и то, что я сейчас так говорю, наверное, слабость и малодушие. А я и не борюсь с ними, потому что думаю, что из всех твоих планов выйдет одно только горе, разочарование и нищета. Старый граф против, и родители твои против, ты сам это сказал, и не вижу я ничего, что сулило бы нам счастье, и с самого начала не было нам благословения. Это против четвертой заповеди [248], а кто нарушает четвертую заповедь, тот потом не знает ни часу покоя, и несчастья идут за ним по пятам.
– Ах, дорогая моя Стина, ты сама себя уговариваешь, да еще толкуешь мне про четвертую заповедь. Поверь, следование четвертой заповеди тоже имеет свой предел. Отец и мать не только отец и мать, они тоже люди и могут ошибаться, как ты и я. Нет, я скажу тебе, в чем дело, и почему ты думаешь, что должна так говорить. Я немного разбираюсь в человеческом сердце, понимаешь? Ведь если ты целый год прикован к постели, у тебя много времени, чтобы многое перечувствовать, и самое увлекательное – это извилистые пути человеческого сердца, собственного и других людей. Вот послушай, в чем дело. В вашей семье есть что-то такое высокомерное, чего хватило бы на трех графов, что-то упрямое и вызывающее, и склонность говорить правду, и даже больше того. У твоей сестры этого хоть отбавляй, и в тебе это тоже есть, ты тоже такая. И в своей ложной гордости ты не желаешь, чтобы я хоть на минуту поверил, что ты представляла себя Стиной Хальдерн. Это, по-твоему, нечестно. Я прав, не так ли?
– Не так.
– Хорошо. Я тебе верю. Я точно знаю, что ты сказала бы мне «да», если бы могла. И то, что ты говоришь мне свое честное «нет», это прекрасно и лишний раз доказывает, что я сделал правильный выбор. Неужели все должно разбиться о глупые предрассудки? Я освободился от предрассудков, а теперь ты хочешь их заиметь. Заклинаю тебя, Стина, избавься от них, и, прежде всего, от твоих страхов.
Стина покачала головой.
– Значит, у нас ничего не будет?
– Это невозможно.
– И все было просто летней забавой?
– Так надо.
– А тебе не приходит в голову, что все это может стоить мне жизни?
– Ради Бога, Вальдемар!
– Не нужны мне восклицания, мне нужен ответ. Короткое и определенное «да», и тогда мы уедем, уедем. Говори, Стина, ты знаешь, чего я прошу. Ты хочешь?
– Нет.
И она с плачем бросилась прочь. Но он удержал ее.
– Стина, так мы не расстанемся. «Нет» не должно стать твоим последним словом. Сядь и посмотри на меня. А теперь скажи: ты вправду меня любила?
– Да.
– Всей душой?
– Всей душой.
Судорожное рыдание, с которым это было сказано, перешло в обморок.
Очнулась она уже в одиночестве.
Вальдемар пошел направо к Ораниенбургским воротам, так как на углу Унтер-ден-Линден и Фридрихштрассе находился банк, где ему нужно было уладить некоторые дела. Но, подойдя к мосту Вайдендамм, он подумал, что конторы, вероятно, уже закрылись, и отказался от прогулки по городу, чтобы вернуться назад, в свою квартиру. Жил он за зданием Генерального штаба, где его соседом был Мольтке [249]. Вальдемар любил в шутку и всерьез подчеркивать это соседство: «Мой дом – самое безопасное место в Берлине. Кто сумел обеспечить великую безопасность, тот обеспечит и малую».
Часы на церкви Святой Доротеи пробили пять, когда наш приятель, столь склонный к наблюдениям подобного рода, повернул на Шиффбауэрдамм, и, прежде чем смолкли большие часы на башне, вслед им зазвучали малые часы довольно многочисленных фабричных зданий, расположенных на другом берегу, одни фасадом, а другие – тыльной стороной к реке. Он считал удары, внимательно разглядывал набережную здесь и там, радуясь проявлениям то вскипавшей, то замиравшей жизни. От его взгляда не ускользало ничего, даже суета на баржах, где на канатах и веревочных лестницах, а иногда и на уложенных поперек палубы рулевых веслах сушилось разнообразное белье. Он медленно побрел дальше, и только миновав клинику Грефе [250], отвел взгляд от реки и ускорил шаг, направляясь к мосту Унтербаум. Здесь он снова остановился и принялся рассматривать бронзовые уличные фонари, еще не имевшие патины, а потому роскошно сверкавшие и мерцавшие на закатном солнце. «Как все красиво. Да, времена изменятся к лучшему. Только… для тех, кто доживет. Qui vivra, verra [251]…» Он оборвал себя, засмотревшись с моста на росшие внизу вдоль берега ивы. Из серо-зеленой листвы, как метлы, торчали несколько мертвых ветвей. Они были его любимицами, эти деревья. «Полумертвые, но все еще зеленые».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

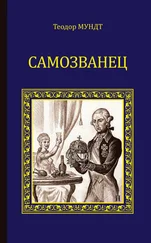
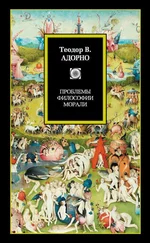





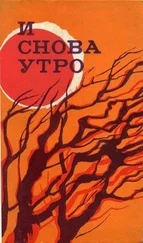


![Теодор Старджон - Брак с Медузой [сборник litres]](/books/395679/teodor-stardzhon-brak-s-meduzoj-sbornik-litres-thumb.webp)
![Теодор Драйзер - Финансист. Титан. Стоик. «Трилогия желания» в одном томе [сборник litres]](/books/431071/teodor-drajzer-finansist-titan-stoik-trilogiya-thumb.webp)