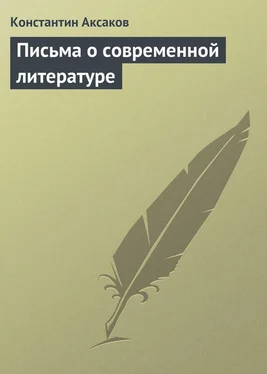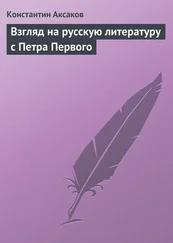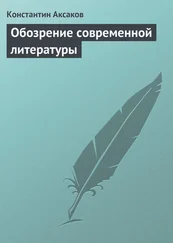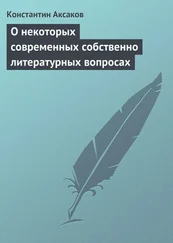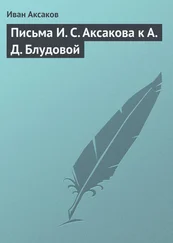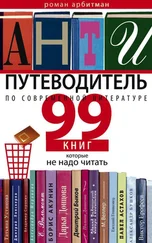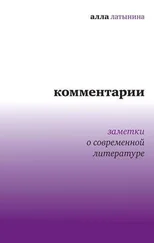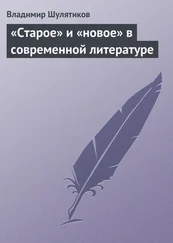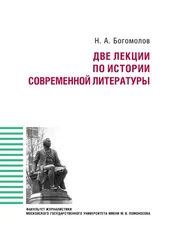В многообразной своей деятельности Москва являлась постоянно освободительницею России. Во имя всея Руси она освободила русскую землю от тяжких междоусобий. Она освободила Русь от татарского ига. Она освободила Русь от владычества поляков. Явился новый период, новая столица была воздвигнута на берегах Невы – мир государственный был отделен от земского и перешел из Москвы в Петербург.
Когда уже в этот новый период налетела на Россию гроза в лице Наполеона и всей Европы и смятенное государство просило помощи у земли, – она же, Москва, выступила опять на поприще. Вся Россия видела ее в огне пожара, вновь имя ее пронеслось из конца в конец, и вновь была освобождена Россия.
Теперь, когда нас одолевает не внешний, а внутренний, нравственный враг, когда чуждое иго западное тяготеет на нашем уме, когда мы живем в рабском поклонении и мыслям, и чувствам, и образу жизни Западной Европы, Москва начинает новый подвиг, важнее всех предыдущих, подвиг духовного освобождения, нравственной силы, самобытности, сознания. В Москве пробудилась деятельность русской мысли, в ней выбивается она из особо хитрого плена умственного. И Русь верит, что совершит Москва и это освобождение.
Но возвратимся к предмету настоящей статьи нашей, к литературе. Так быстро сменяется наша литературная деятельность, что натуральная школа, гремевшая года четыре назад, уже становится анахронизмом; но, во всяком случае, она примыкает к настоящему состоянию литературы, и, если говорить о современности, надобно говорить о ней, ибо теперешние произведения, хотя и имеют притязание на особую школу, все же много имеют общего с натуральной. Да и вообще литература после 30-х годов, т. е. литература десяти и более ближайших лет, несмотря на свои быстрые изменения, имеет одну общую характеристику и составляет один период, еще продолжающ.: Ее и называем мы литературой современною.
Итак, переходим к современной литературе и ко второму письму.
Читатели простят нам, если мы, говоря о современной литературе, следовательно, о целой эпохе, считаем нужным сделать небольшое вступление.
Письмо III
[1]
Литература современная
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Д. Давыдов
Скажем прежде о том отделе литературы, в котором самое слово, по форме своей, уже принадлежит поэзии, – т. е. о стихах, о языке богов, как называли их в старину.
Для поэта необходима полнота жизни, гармония в нем самом, некоторое, так сказать, самодовольство. Это не значит, чтобы поэт не гремел иногда проклятьями на целый мир; напротив, поэт часто страдает и терзается, плачет и проклинает; но есть полное наслаждение художественностью своего проклятия и своих слез; стих гармонически разрешает его муку; перед ним не стоит нерешенный вопрос, неотступный, не дающий ему покоя, мешающий писать стихи. Поэт верит в искусство, поэт знает, что ему сказать: будет ли это слово убеждения, сомнения или отрицания, – везде для него находится несомненная идеальная правда и наслаждение поэзии. Все это можно назвать внутренним чувством гармонии, или самодовольством, если не дико покажется это слово.
Такова по-своему была прежде и русская поэзия. Поэты верили в поэзию, благоприобретенную ими от Западной Европы, писали искренно на чужой лад, – и стихи писались звучно, весело, и публика с наслаждением слушала и повторяла их. Все эти условия необходимы для того, чтоб писать было можно. Общая отвлеченность и неправда всей заемной жизни не была понимаема и разве только смутно чувствовалась немногими; напротив, все казалось ясно, так было весело, и сладко, и легко служить постоянным и достойным отзывом великим поэтам Европы: Байрону, Шиллеру, Гете. Долго постоянная гармония стихов не переставала раздаваться в России.
Но в настоящее время зашевелились вопросы. Появилось сомнение, хорошо ли то подражательное направление, которому так долго и беззаботно мы следовали; отвлеченность, неестественность всего строя общественной жизни нашей более или менее почувствовалась, пробудилась мысль о русской самостоятельности, и все, что мыслит в России, задумалось.
С наших глаз стала спадать одна пелена за другою. Мы стали замечать, что вся умственная и литературная деятельность наша есть только повторение деятельности чуждой, лишена самобытности… и – бесплодна. Мы стали понимать, что нам необходимо, конечно, принимать от соседей наших дельные сведения и науки, как необходимо приобретать все новейшие открытия и приобретения (так было и встарь на Руси), но что это заимствование может быть полезно только при своей самостоятельной умственной жизни; а догадливое перенимание чужих мыслей не есть еще самобытная деятельность ума. Мы заметили, что мы все перенимали даже то, чего не следует, чего нельзя перенимать без совершенной утраты самостоятельности; перенимали мы образ мыслей, восторги, негодования, самую жизнь. Мы заметили, что жили чужим и отсталым умом, и догадались, что это не жизнь.
Читать дальше