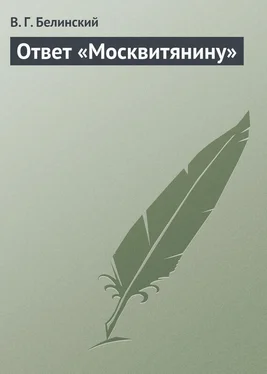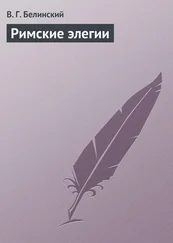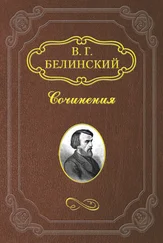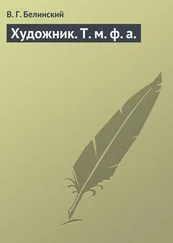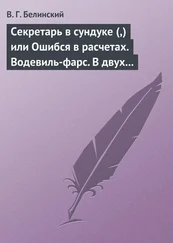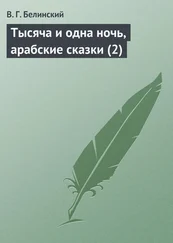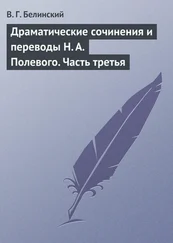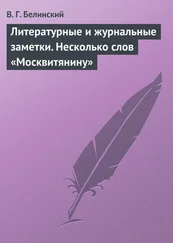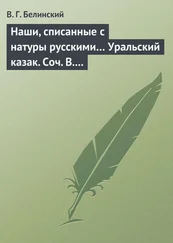И вот на каких фактах славянофилы основывают важность своего учения! Но вот еще пример, как трудно, как невозможно понимать их. Г. Кавелин сказал, что на новгородском вече «дела решались не по большинству голосов, не единогласно, а как-то неопределенно, сообща». Эти слова объясняются целым взглядом г. Кавелина на новгородскую общину, как чуждую всякого прочного основания и потому не способную развиться ни в какую государственную форму. Г. М… З… К… возражает на это, что в Новгороде было двоевластие и что идеал новгородского быта можно определить, как согласие князя с вече. Этим он хочет указать на особенности славянского общинного начала, составляющего краеугольный камень славянофильства. Но из его слов видно, что особенного и оригинального в этом быте ничего не было, что он отзывается карикатурою на нынешние конституционные монархии, основа которых – двоевластие, а идеал – согласие короля с палатою. Критик «Москвитянина» прибавляет, что редкие минуты этого согласия князя с вече представляют апогей новгородского быта, но признается, что оно осуществлялось только иногда, и то не надолго. Что ж тут было особенно любовного, согласного, общинного по любимому выражению славянофилов? В возражение на слова господина Кавелина критик «Москвитянина» замечает, что способ решения по большинству запечатлевает распадение общества на большинство и меньшинство и разложение общинного начала; вече, выражение его (общинного начала), нужно именно для того, чтобы примирить противоположности, цель его – вынести и спасти единство; от этого вече обыкновенно оканчивается в летописях формулою: «снидошася вси в любовь». Скажите, бога ради, есть ли, может ли быть в каком бы то ни было совещательном правлении другой способ решения вопросов, кроме как по большинству голосов? Утверждать это – значит смеяться над здравым смыслом. Что на новгородском вече случалось бывать единодушному решению вопросов, без всякого противоречащего меньшинства, – это не диво; это случается, даже не редко, и в представительных камерах конституционных государств нашего времени; тем чаще это могло случаться в массе народа, везде наклонного к мгновенному единодушному увлечению и порыву, как в добре, так и в зле. Также часто могло случаться, что меньшинство являлось слишком ничтожным, чтобы спорить с большинством, и часто соглашалось с ним – не по убеждению, а из опасения хлебнуть волховской водицы. Известно, что в случае разделения мнений на половины ровные или почти ровные, бывали драки и побоища, доставлявшие Волхову обильную добычу; которая сторона побеждала, та и решала вопрос. И потому его решение все-таки всегда зависело от большинства, или по крайней мере от перевеса физической силы. Но г. Кавелин был прав, сказавши, что дела решались на вече не по большинству голосов: он хотел этим указать на отсутствие баллотировки или другой какой-нибудь постоянной, неизменной, коренным законом определенной формы для обнаружения большинства, а потому и прибавил: «а как-то совершенно неопределенно, сообща», то есть бестолково и нелепо, как прилично общине чисто Патриархальной, совершенно чуждой юридического элемента. И такие общины были совсем не у одних славянских племен, как уверяют гг. славянофилы, а были и у всех племен и народов в патриархальном состоянии, даже и у дикарей; да только нигде они не развились, во многих местах не удержались. И у цельтических племен были эти общины, ибо они управлялись собраниями народа и советами старцев, жрецов и т. д.; но только германские народы развили общинное начало, потому что внесли в него юридическое начало, как главное и преобладающее.
А между тем общинный быт славянских племен – краеугольный камень славянофильства; по крайней мере он не сходит у них с языка, и ему назначили они свидетельствовать в пользу любовности, как общественной стихии, отличающей славянские племена от всех других. Но не значит ли это – основывать свое учение именно на тех фактах, которые особенно противоречат ему? Как же вы хотите, чтобы такое учение понимали и чтобы, говоря о нем, не впадали в противоречия? И потому г. Белинский охотно признает, ч-то он изложил основания славянофильства неверно и противоречиво и не будет защищаться от возражений своего противника по этому вопросу, тем более что эти возражения не подвинули его, г. Белинского, ни на шаг вперед по части понимания славянофильства, а напротив, повергли его еще в большее прежнего недоразумение насчет этого таинственного учения. Он не станет спорить с гг. славянофилами даже и в таком случае, если они скажут ему, что он ошибся и впал в противоречие, назвавши славянофильство заслуживающим внимания и имеющим какой-нибудь смысл явлением, но охотно согласится с ним и в этом, по личной потребности внутреннего очищения… Да и как спорить с славянофилами о чем бы то ни было, возражать им против чего бы то ни было или защищаться против них в чем бы то ни было, когда они, как кажется, окончательно порешили, что их учение несомненнее самой несомненной книги восточных народов, что все несогласное с ним есть оскорбление истины и нравственного чувства? Просим наших читателей вспомнить, что наговорил критик «Москвитянина» на натуральную школу; нашел ли он в ней хоть что-нибудь хорошее, что находят в ней иногда, хотя и не искренно, а ради приличия, даже риторические враги ее? Еще раз: как спорить с людьми, которым, во что бы то ни стало, нужно оправдать свою систему и которые поэтому не уважают даже фактов? Г. Белинский, например, сказал: «Известно, что в глазах Карамзина Иоанн III был выше Петра Великого, а допетровская Русь лучше России новой: вот источник славянофильства». Говоря так, он имел в виду не одну историю Карамзина, но и рукописный его обзор древней и новой истории России, известный многим. {26}Критик «Москвитянина», выписывая из VI тома истории Карамзина параллель между Иоанном III и Петром Великим, сам соглашается, что здесь действительно проглядывает предпочтение в пользу Иоанна; а потом как-то выводит, что г. Белинский взвел на Карамзина небылицу.
Читать дальше