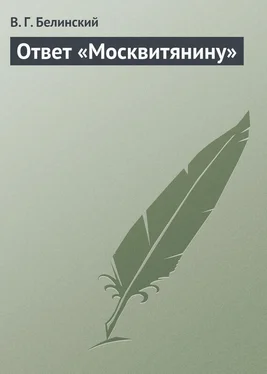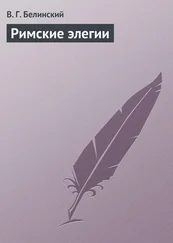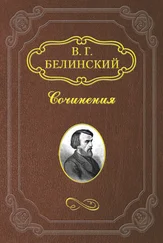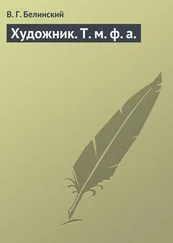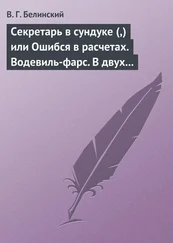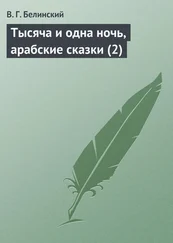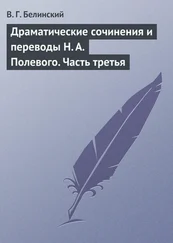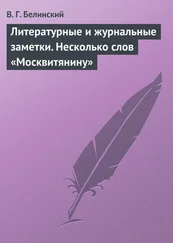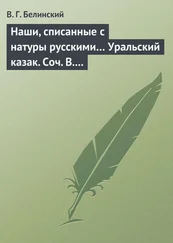Намеки тонкие на то,
Чего не ведает никто.
Доселе их образ мыслей проглядывает только в симпатиях и антипатиях к тем или другим литературным произведениям и лицам. Кроме того, они беспрестанно противоречат самим себе, так что можно подумать, что у них столько же мнений, сколько и лиц. Можно указать на выходки, разбросанные там и сям, против европеизма, цивилизации, необходимости образования и грамотности для простого народа, против реформы Петра Великого, современных нравов, какие-то темные намеки, что русскому обществу надо воротиться назад и снова начать свое самобытное развитие с той эпохи, на которой оно было прервано, надо сблизиться с народом, который будто бы сохранил в чистоте древние славянские нравы и нисколько не изменился в продолжение веков. Все это, может быть, и заслуживает по крайней мере быть выслушанным; но для этого сперва должно быть высказанным. Г. Белинский в статье своей, в первой книжке «Современника», сказал, что явление славянофильства есть факт, замечательный до известной степени, как протест против безусловной подражательности и как свидетельство потребности русского общества в самостоятельном развитии. В подобном отзыве не могло быть ничего оскорбительного для гг. славянофилов. Напротив, он давал им удобный случай объясниться с своими противниками, изложив им свое учение и показав им, в чем и где именно они понимают его неверно. Но гг. славянофилы поступили иначе. Как люди, не привыкшие к благосклонным о себе отзывам со стороны не принадлежащих к ним литературных партий, они до того обрадовались отзыву г. Белинского, что начали смотреть на всех своих противников, как на разбитое впрах войско, а на себя – как на великих победителей. Вот что называется – не давши сражения, торжествовать победу! Вместо того чтобы объяснить свой образ мыслей, они с ожесточением начали нападать на чужие мнения. Скажите, легко ли после этого судить верно о таком образе мыслей?
Давно уже замечена за гг. славянофилами замашка – основывать важность своего учения на таких фактах, которые или вовсе не существуют, или доказывают совсем противное. Мы сейчас представим доказательство этого из статьи г. М… З… К…, где между прочим выдается за несомненную истину, будто бы «на красноречивый голос Мицкевича взоры многих, в том числе и Жоржа Санда, обратились к славянскому миру, который понят ими как мир общины, и обратились не с одним любопытством, а с каким-то участием и ожиданием». Эта оригинальная выходка снабжена выноскою, в которой говорится об известном сочинении Жоржа Санда – «Жишка» или «Зишка». Все это, по мнению критика «Москвитянина», значит ни больше ни меньше, как то, что Европа ужасно как занята так называемым славянским вопросом; а по нашему мнению, все это ровно ничего не значит. Если Санд избрала предметом своего сочинения гусситскую войну, это могло произойти без всякого отношения к важности или неважности славянского вопроса, а напротив, именно оттого, что гусситская война – событие чисто европейское, западное, католическое; славянского тут только национальное происхождение действователей да бесплодный для них исход героической, впрочем, борьбы. Когда дело реформы взяло на себя германское племя, реформа восторжествовала над католицизмом. Что касается до Мицкевича, его действительно красноречивый, хотя и сумасбродный, голос точно обратил к себе на некоторое время внимание парижан, жадных до новостей; но к славянскому вопросу все-таки не возбудил никакого участия. Известно, что французское правительство принуждено было запретить Мицкевичу публичные чтения, но не за их направление, нисколько не опасное для него, а чтобы прекратить сцены, не согласные с общественным приличием. {25}Надо сказать, что в Париже есть некто г. Товьянский, выдающий себя за пророка и чудотворца, который призван, когда настанет время, устроить к лучшему дела сего мира. Мицкевич уверовал в этого шарлатана, что доказывает, что у него натура страстная и увлекающаяся, воображение пылкое и наклонное к мистицизму, но голова слабая. Отсюда учение его носит название мессианизма или товьянизма, и ему следуют несколько десятков человек из поляков. Когда раз на лекции Мицкевич в фанатическом вдохновении спрашивал своих слушателей, верят ли они новому мессии, какая-то восторженная женщина бросилась к его ногам, рыдая и восклицая: верю, учитель! Вот случай, по которому прекращены лекции Мицкевича, и о них теперь вовсе забыли в Париже. Вообще в Европе мало заботятся о чужих вопросах и чужих делах, потому что у всех много своих и все заняты ими. Это особенно относится к французам; для них все другие страны существуют только по отношению к Франции. Может быть, поэтому в их журналах можно находить более или менее верные известия только об Англии, Испании и Италии: они к ним ближе и больше связаны с ними политически. Говорят в Париже и о России, но отнюдь не потому, что это славянская земля, а потому, что это великое и могущественное государство, с огромным влиянием в сфере европейской политики.
Читать дальше