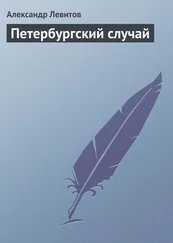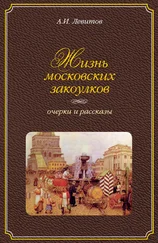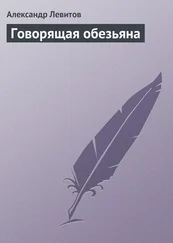– Увидит! Она все видит, даром что стара, – мрачно отвечал я розовым губкам девочки, которые с каждым днем делались все бледнее.
– Пойдем, пойдем! – увлекала меня женская страсть. – Не увидит.
– А тот свет-то? – возражал я. – Ведь конца никакого тем мукам нет, – всё только нас жечь станут да в уши будут реветь по-звериному. Забыла разве, какой там кийждо-то посажен?..
Так и оставалась бедная девочка с открытыми, умоляющими глазками, когда я произносил страшное слово – кийждо; словно столбняк находил на нее и на меня, когда нам приходилось увещевать друг друга не грешить, под опасением того мучительного штрафа, который бесконечно имели взыскивать с нас многочисленные кийждо и лицеприятие.
Часто зимними вечерами, при тайном свете месяца, лившегося в нашу неосвещенную тюрьму (старая барыня обыкновенно жалобно визжала, когда вносили свечи), при грозном вое степной метели, мы с сестрой решали – кто именно такие наши мучители, постоянно упоминаемые бабкой, – и однажды, в минуту слетевшего на нас вдохновения, единогласно решили, что кийждо должен быть в этой страшной семье мужем-людоедом, лицеприятие – женой, а стень – их любящим и любимым сыном.
Долго бы таким образом пришлось нам набивать наши головы уродливыми фантазиями бабки, если бы, вскорости одна после другой, не перемерли обе старухи, и, следовательно, на счастье или несчастье, мы не были бы выпущены из нашей клетки на полную жизненную волю, такую горькую и сокрушительную для всех людей вообще, а для малолетних дворовых сирот в особенности.
Дело это произошло следующим образом.
Однажды старая барыня как-то особенно энергично задрыгала своей дряхлой головою, точь-в-точь молодой цыпленок, когда меткий камень баловника-мальчишки опрокинет его вверх брюшком.
Бабка встрепенулась. При самом тщательном взглядывании в лицо своей повелительницы она никак не могла отгадать, вследствие каких именно потребностей барыня дрягает головой и даже стонет.
– Питиньки, что ли, вам, али естиньки? – спрашивала бабка у немощной, но немощная вместо обыкновенного подтвердительного кивка еще сильнее и недовольнее затряслась уже не одной только головой, а всем телом.
Бабка усилила свои наблюдательные средства, состоявшие в многолетней привычке и подслепых глазах; но все-таки, кроме болезненных стонов, ничего не слыхала и, кроме трясения головы, ничего не видела. Барыня сама уже разрешила ее сомнения. Она вытянулась в креслах во весь свой высокий, стройный рост, пленявший, говоря слогом Карамзина, некогда напудренных петиметров блистательного екатерининского двора, и, в качестве супруги бригадира, отправилась в Ростов на свидание с супругом.
Ну и мир бы ей – этой жизни, которая во весь свой длинный век ничего не придумала лучше, как во время оно заставить дюка де Белиль, маркиза де Грильон [2]обожать себя, да в нынешнем столетии – умереть; мир бы ей – этой, в период беспрерывного трясения и дрожания, доброй, потому что неподвижной и онемевшей, старухе; но нашлись же души, которые не попомнили неисчислимого количества того далекого зла, которое сделала эта барыня, когда, блистая яркими французскими румянами и дикой энергией темниковской медведицы [3], не удостоенной аттестата Сморгонской медвежьей академии [4], звонко смеялась, наивно и вместе с тем кровожадно потешаясь над людскими жизнями.
В числе этих сочувствовавших душ была и моя бабка. Сначала смерть барыни как-то странно поразила ее. Она с особым вниманием всматривалась в покойницу, ожидая как бы, что вот-вот по-прежнему заживет эта длинная, столетняя жизнь. Бабке, видимо, не желалось верить, чтобы могло умереть что-нибудь из екатерининских времен. Ее до того заняло это смертное событие, что недели две, по крайней мере, она не говорила не только про кийждо, но даже не сделала ни одного обыкновенного житейского вопроса или ответа. Не обращая ни малейшего внимания даже на меня с сестрой, она, как вылитый истукан, мрачная и грозно опечаленная, просидела безвыходно эти две недели в своей наполовину опустелой комнате.
После двухнедельной безмолвной печали бабка, до того времени высокая и здоровая старуха, очевидно сгорбилась и ослабела. Такими беспомощными шагами и так низко нагнувшись стала она выходить из барского дома, что мужики и бабы, редко видевшие ее в церкви, крестясь, сторонились при встрече с ней.
Подкараулить барин послал: куда и зачем ходит Елена Павловна? Донесли караульные, что Елена Павловна изволит ходить к старой барыне на могилку, где громким голосом воют и об землю даже грудкою бьются.
Читать дальше