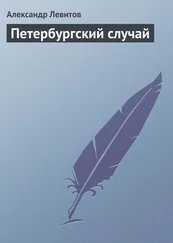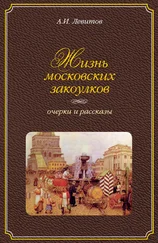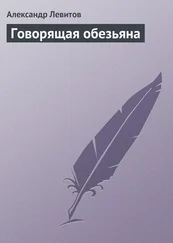Александр Иванович Левитов
Моя фамилия
(Из воспоминаний временнообязанного) [1]
Яблочко из-под яблоньки
далеко не катится.
Сельская пословица
Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлою радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица. Слушаю и смотрю, как при воспоминании об этих родственных образах добрая радость рассказчиков сменяется какою-то тихой, исполненной невыразимой любви печалью и как они, наконец, забывши в эти моменты свой солидный возраст, с совершенно детской наивностью начинают страстно желать возврата и своего детства, и тех дорогих людей, которые некогда лелеяли их, но которые тем не менее в данную минуту бесповоротно жительствуют в тайном и никогда не выдающем своих обитателей царстве смерти.
Зная этот роковой закон темного царства – никогда не давать глазам своих обитателей любоваться на светлое солнце, – душа моя с злою, молчаливою радостью таким образом отвечает желаниям счастливцев – посмотреть такого-то, обняться и поплакать с таким-то:
«Не-ет! Погоди! Не так-то скоро, как ты хочешь, он к тебе явится оттуда. Разве уж сам к нему туда потрудишься спешешествовать…»
Грудь моя наполняется при этой безмолвной думе злым смехом, колыхающим ее до того сильно, что из глубины ее слышатся какие-то ужасающе грозные урчанья…
Без малейшего смущения сознаюсь, что эти звериные урчанья производят в моей груди зависть к чужому счастью, и так как заведено – завистливого человека всегда осуждать и чураться, и так как заведено еще и то, что и осужденные, в свою очередь, обыкновенно стараются оправдать себя, то я, в силу этих двух вековых обычаев, говорю: я не желаю повторения моего детства, если бы даже это было возможно, – никогда не назову его ни золотым, ни даже железным, потому что и железо все-таки капитал, – не хочу пожелать, даже стоя на краю гибели, чтобы из царства вечного покоя и мира, куда отец небесный призывает всех труждающихся и обремененных, пришли ко мне для моего спасения от этой гибели люди, некогда любившие меня точно так же, как были любимы счастливцы, которым я теперь так завидую.
Да! я не хочу ни того, ни другого, ни третьего, потому что, начиная оправдание моей злости и зависти людскому счастью, я говорю: вот какое было мое детство и вот каковы были люди, обязанные природой приготовить его к верному хождению по широким и шумным дорогам жизни.
В конце двадцатых годов по широким степям великороссийских губерний летала такая злая зима, какой никто из старожилов ни разу не видал в своей жизни. Голодом и холодом покрывала она печальные деревни и села, хоронила в снежных сугробах длинные обозы, обрывала соломенные крыши с убогих мужицких изб, заваливала дороги и реки, валила с могучих ног дремучие леса…
В заметенных снежными сугробами избах, при свете длинной лучины, заговорили:
– Должно, народился антихрист?
– Надо полагать, что так. У меня в эту метель-то двух лошадей с двора согнали, – теперь совсем обезножил. Боже, царь мой небесный, что я теперь буду делать?..
– Нет, я что слышал: говорят, уж он народился давно, и от роду ему теперича семь годов. Руки у него уж и теперь по семи аршин каждая, и когти на них железные по семи четвертей. Большое терзание людям от тех когтей выйдет, а? Как полагаешь?
– Известно! Одно слово – антихрист…
В нашей дворовой избе говорили в эту зиму почти то же, только антихрист в фантазиях дворовых грамотеев рисовался еще страшнее.
«И придет он аки тать в нощи, – распевали по вечерам седые грамотеи, – в предшествии мрака и бури, коей ни единое существо не воспротивится, придет с злым смехом и паскудным глумлением над христианскими душами, и возмнит он обратить те христианские души в свою антихристову веру, и примется острые иглы втыкать в ногти человеческие для того, дабы совратить…»
– Ох, дедушка! – толковали наши бабочки. – Что это ты к ночи-то распечалился, – смерть! Перестань, Христа ради!
Поистине, всякий человек мог бы ополоуметь от тоски, слушая эти рассказы, если бы их не разнообразили разговоры молодежи про разные зимние деревенские удовольствия.
Читать дальше