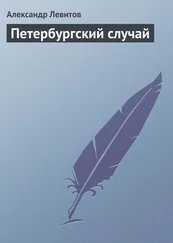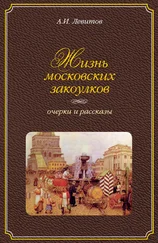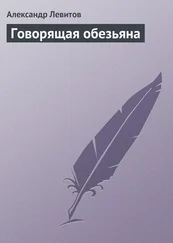– Скажи-ка Ферапонту, чтобы он его выпорол хорошенько.
– Было бы за что! – ответил я. – Мой отец-то, думаешь, такая же кошка пареная, как ты?
За такую не по летам острую выходку меня тем не менее в самом деле выпороли. Процесс этот сопровождался со стороны отца приговариваниями, что разве можно барину грубости говорить, что с барином когда в другой раз встретишься, так сними шапчонку-то да к ручке подойди.
– Пожалуйте, мол, барин, ручку поцеловать. Вот как!
В первый раз в это время мое младенчество покорилось жизненной необходимости, точно так же как в то же именно время меня посетило чувство ненависти и отвращения к людям. Рука, управляющая людьми, сочла, вероятно, этот момент моего возраста решительно удобным для того, чтобы перековать мою младенческую душу в душу человека, и перековала.
– За что ты меня сечешь? – корчась от стыда и боли, спрашивал я моего отца. – Я тебя люблю, а его не люблю, а ты меня за него сечешь?
Но тут впервые было отвергнуто, обругано и обесчещено мое настоящее, ничем не подкупное, человеческое чувство. Отец все продолжал сечь меня и читать свои наставления на тему, как надобно дворовому мальчишке обходиться с господами.
Под самой розгой как-то я успел задуматься о слове – дворовый мальчишка. Скорой молнией мелькнули тут в возбужденной голове моей какие-то новые, ни разу еще не посещавшие меня мысли. Какие-то странные, никогда не виданные мною предметы сверкнули в залитых слезами глазах моих, – что-то уродливое, в высшей степени изможденное и страдающее стало тогда предо мною, освещенное вывеской – дворовый, и плакало вместе со мною. Собака – дворовая, Агафью зовут дворовой, – думалось мне, и тут я вспомнил, как мы с матерью были в гостях у попа, и поп спрашивал про меня у матери:
– Он у вас к дворне приписан?
– К дворне, – смирно отвечала моя всегда тихая, покорная мать.
– Значит, и я дворовый? – спрашивал я себя, не чувствуя острых и резких уколов жидких березовых прутьев.
«Дворовый!» – ответила мне горячая волна слез, вдруг с новою силой хлынувшая из глаз моих, – и я стал с этого времени человеком, потому что вся грудь моя закипела тогда той непримиримой, никогда не прекращавшейся злобой, которая сделала хрипучим и шипящим мой некогда звонкий голос и от которой избавит меня только темная, навсегда мирящая людей друг с другом могила…
Молча и низко нагнувши голову, стаскивал я шапчонку с моей головы при встрече с белобрысым существом. Как теперь помню, что-то в высшей степени тяжелое и горячее подкатывалось мне в такие времена под грудь;хотелось почему-то тогда удариться этой грудью о землю, валяться по ней, биться о нее, громко стонать и плакать.
– Эй ты, мальчишка, поди-ка сюда, – властительно повелевал мне барин, и я подходил к нему теми медленными, неровными шагами, какими подходят обыкповенно молодые щенки к людям, которые их дрессируют.
– Ну что, выучил тебя отец шапку снимать перед барином, а? Ха, ха, ха! А? Выучил?
– Выучил-с…
– Да ты что буркалы-то свои все в землю прешь? Ты прямо на меня смотри. Ты, верно, стыдишься чего-нибудь? Должно быть, украл что-нибудь?
Эти вопросы, так сказать, постоянно дрессировали меня, как щенка. В той избе, где я родился, ни разу ни одна мать и ни один отец не спрашивали у своих ребятишек:
– Петрушка! Зачем ты, как бык, все в землю бельмы-то пулишь? Стыдишься, должно быть, оттого, что украл что-нибудь?
Там, в этих избах, где по зимам народ мерзнет от холода или околевает от угара, как запечный таракан, где голодные дети действительно по-собачьи грызутся между собой за кусок столетнего калача, украденного матерью на прошлом базаре, – в тех избах так не говорили, и потому молодой ум мой сообразил, что барин, должно быть, неимоверный дурак. Я пристально всматривался в его блестящие сапоги с высокими каблуками, в его сельскую, из смурого полотна, коротенькую жакетку, в длинные белые ногти, – и решительно перестал считать его человеком. До того все, что я видел в нем, было противоположно моим пониманиям. Вследствие всех этих безмолвных и крайне занимавших меня дум – каким именем назвать мне это, в первый раз подведшее меня под отцовскую розгу, существо, – я назвал его «полтора платья», к чему мне главным образом подала повод барская шинель с длиннейшим, по тогдашним модам, капюшоном.
Быстро разнеслось по дворне это название. Могу сказать, что многообразные вариации этого слова доставили дворовым много поводов к различным до бесконечности характерным рассказам о господах вообще и о нашем барине в частности. Унылые стены избы начинали смотреть как будто веселее, когда по ним прокатывался могучий хохот сорока человек, подлейший ужин которых приправлялся этими рассказами.
Читать дальше