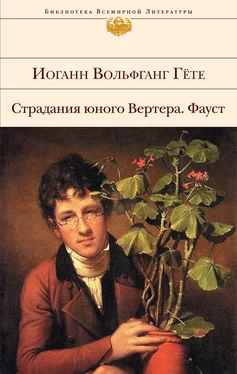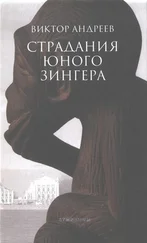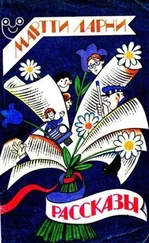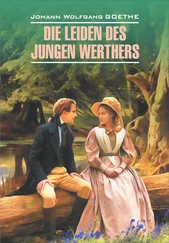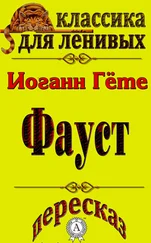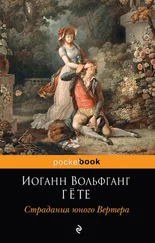Существует вариант мифа о Елене, согласно которому она, уже после смерти, вступила в брак с мертвым Ахиллом, умолившим свою мать Фетиду даровать ему и Елене хотя бы недолгое возвращение к жизни. Этот брак состоялся на заколдованном острове Левке, где Елена прижила с Ахиллом сына Эвфориона (ср. эпизод с Эвфорионом в настоящем действии «Фауста»).
Намек на основание в Греции франконского рыцарского государства французским крестоносцем Гийомом де Шампилит.
Деифоб, младший сын Приама троянского, был предан Менелаем мучительной казни: по его повелению Деифоба медленно изрубили на куски.
Вступление в повествование форкиады о рождении и быстром возмужании Эвфориона было первоначально задумано как шутливая беседа с публикой, в которой прикинувшийся форкиадой Мефистофель иронизирует над немецкими филологами и философом Шеллингом, предпочитающими греческой мифологии мифологию восточную, в частности индийскую, как более проникнутую духом мистики. От этого обращения к партеру сохранился в окончательной редакции трагедии только стих: «А с ними вы, брадатые, что, сидя там» и т. д.
Эвфорион – сын Фауста и Елены, названный так по имени сына Елены и Ахилла (см. выше). Эпизод Эвфориона раскрывает весь смысл вплетенной в трагедию темы Елены. // Менее всего следует, по примеру большинства комментаторов, рассматривать этот эпизод как не зависящую от хода трагедии интермедию в честь Байрона, умершего в 1824 году в Миссолунгах, борясь за освобождение греческого народа, хотя физический и духовный облик Эвфориона и принял черты английского поэта, столь дорогого старому Гёте. Но такое сближение с Байроном не объясняет эпизода с Эвфорионом как определенного этапа трагедии. А ведь Эвфорион – прежде всего разрушитель недолговечного счастья Фауста с Еленой: в общении со спартанской царицей Фауст перестает тосковать по бесконечному. Он мог бы сказать мгновению: «Прекрасно ты! Продлись, постой!», если бы брак с Еленой не был только наваждением. Это наваждение и разрушает сын Фауста и Елены, Эвфорион, наследник фаустовского духа, фаустовской тяги к бесконечности. Этим он отличается от окружающих его теней и тех, кто, подобно Фаусту, соединил свою судьбу с их призрачным существованием. Как существо, порывающее со вневременностью, в которой здесь пребывает Фауст, Эвфорион подвержен законам времени, а стало быть, и закону смерти. Гибель Эвфориона вносит в заколдованный круг вневременности временное начало, и суровые законы времени и тлена вмиг рассеивают прекрасную, но лживую сказку. // Такова сюжетная схема эпизода с Эвфорионом. Социальный же смысл, который вкладывает в него поэт, сводится к следующему: можно укрыться от времени, углубившись в мир искусства, созерцая уже однажды созданные эстетические законы и закономерности. Но коль скоро «любитель изящного» хочет быть и «творцом», он неминуемо должен перешагнуть хрупкие границы «автономного» искусства и вступить в общение с историческим началом – современностью. Так всегда поступал и Байрон, это «высшее поэтическое явление века», как называл его Гёте. Не мог, хотя он сам и не подозревает этого, пребывать в мире искусства и неспособный к бездейственному созерцанию духовно активный Фауст. Тем самым подготовляется новый этап в становлении Фауста: Фауст, погруженный в активную деятельность.
Икар (восковые крылья которого растаяли, когда он приблизился к солнцу, что повлекло за собой его падение в море и смерть) здесь упоминается вещими троянками как прообраз Эвфориона, которого должна постигнуть та же трагическая участь.
Асфодели, по древнегреческому поверью, – единственные цветы, растущие в Аиде. Асфоделями, широко распространенными в южной Европе, древние греки украшали саркофаги, могилы и урны.
Эта картина, как и все последующие, входит в состав пятого действия, над которым Гёте работал в разные годы (начиная с 1797 и кончая 1830 годом).
Филемон и Бавкида – имена мифологической древнегреческой патриархальной четы; престарелые крестьяне, они жили и трудились в неизменной дружбе и любви друг к другу. За радушный прием, оказанный посетившим их под видом странников олимпийцам, они были вознаграждены долголетием и единовременной смертью: их бедная хижина была обращена в храм, при котором они состояли жрецом и жрицей. Гёте назвал их именами героев своей лирической увертюры к заключительному действию «Фауста». – Странник , монологом которого открывается сцена, – отнюдь не олимпиец, а простой смертный, некогда воспользовавшийся гостеприимством престарелых супругов.
Читать дальше