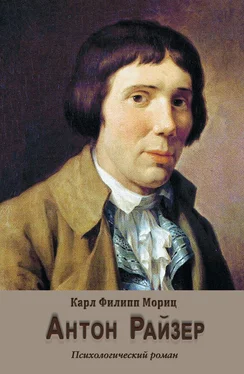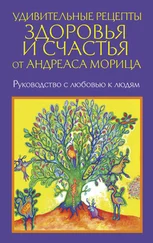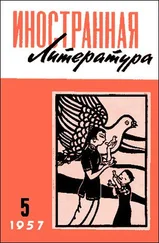Насколько далеко заходила убежденность школьных товарищей в его прирожденном тупоумии, видно из следующего случая.
Ректор разрешил Райзеру присутствовать на частных уроках, которые давал у себя на дому. Среди прочего он преподавал и английский язык. У Райзера, однако, не было книги для английского чтения, дома он упражняться не мог и поневоле поглядывал в книгу соседа, но через неделю-другую со слуха усвоил большинство правил английского произношения и, когда ректор по случайности вызвал его для чтения, прочел заданное более бегло и ясно, чем те, кто дома упражнялся по книге.
И вот однажды он услышал в соседней комнате разговор о себе, мол, Райзер, не такой уж тупица, коли сумел так скоро усвоить трудный английский выговор. Но другой ученик, желая немедля разрушить возникшее было благоприятное мнение, стал уверять других, будто отец Райзера по рождению англичанин и потому сын просто вспомнил английскую речь, слышанную еще в детстве. Остальные с готовностью поверили в этот рассказ, и таким образом Райзер снова опустился в их глазах до прежнего уровня.
Их сказанного видно, что для молодого человека в пору взросления и учения мнение школьных товарищей необычайно важно, хотя в публичных воспитательных заведениях об этом пока задумываются слишком мало.
Единственным, что бы вызволило Райзера из его отчаянного положения и вновь превратило в обыкновенного юношу, могло стать совсем небольшое усилие учителей, желающих поднять его в глазах товарищей. И достичь этого они могли бы, просто подвергнув чуть более тщательной проверке его способности и обратив на него чуть больше внимания.
Итак, зима протекла для Райзера донельзя горестно. Его маленькое хозяйство вконец развалилось – в своем ветхом платье он даже не решался явиться к принцу за месячным содержанием, перед букинистом оказался в глубоком долгу, да и прочие свои нужды, как стирку одежды и покупку башмаков, он не мог обеспечить из тех жалких грошей, что ему давали еженедельно, и «хоровых» денег, тем более что он все отдавал букинисту.
Таковы были его жизненные обстоятельства, когда на пасхальные каникулы он отправился навестить родителей. Здесь он нацепил шпагу, которой закололся в роли Филота, и снова и снова разыгрывал эту сцену перед своими братьями, отнюдь не рассказывая им о своем изгойстве в школе и о презрении, его окружавшем, но, напротив, выискивая приятное и лестное для себя: как ректор взял его с собой в компанию священников, как он посещал частные уроки английского, как участвовал в факельном шествии с музыкой, как оно было обставлено и проч.
Даже из собственных мыслей он, как мог, постарался изгнать все неприятное и унизительное, желая предстать в благоприятном, выгодном свете, сколь ни жалким было его положение в действительности.
В таком приятном самообольщении он провел у родителей несколько дней, но облегчение, которое он почувствовал, выйдя из ворот Ганновера и понемногу отвлекшись от вида четырех городских башен, лишь усугубило тяжесть, навалившуюся на его сердце, когда он вновь приблизился к городским воротам и перед его взором опять поднялись четыре башни, словно четыре булавки, отмечавшие на карте область его неисчислимых страданий.
Особенно устрашающей показалась ему граненая, увенчанная лишь маленьким шпилем рыночная башня, к которой примыкала его школа – насмешки, издевательства и перешептывания одноклассников снова всплыли в его сознании при виде этой башни: на огромный циферблат ее часов он обыкновенно бросал взгляд, когда торопился в школу, боясь опоздать. Башня эта, как и старинная рыночная церковь, была построена в готическом стиле, из красного кирпича, давным-давно почерневшего от времени.
Рядом, на этой же площади, преступникам объявляли смертные приговоры, – словом, фантазия Райзера связала с этой башней все, что только могло его сокрушить и погрузить в тяжелую тоску.
Едва ли охватившая его тоска могла усугубиться сильнее, узнай он в ту минуту, что еще суждено ему испытать в нынешнем месте его пребывания. Но если год назад, когда он, как теперь, возвращался в Ганновер из родительского дома, его печаль все же имела свои причины, то на сей раз причин было куда меньше, так как ужаснейшая минута его жизни еще только предстояла.
Но и не полагая в нем особого дара предвидения, можно счесть его тоску совершенно естественной, стоит лишь себе представить, как он в воображении пробегал узкие круги своего существования: школу, хор, ректорский дом – в этих сужающихся кругах, стеснявших все его стремления, он обречен был вращаться снова и снова. С какой охотой он променял бы тогда свое житье в Ганновере на самую темную из тюремных камер, заключавшую, без сомнения, куда меньше ужасного и страшного, чем его нынешнее положение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу