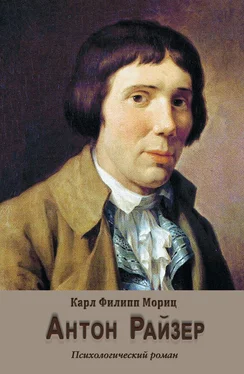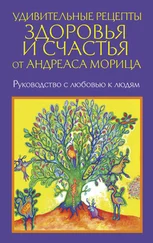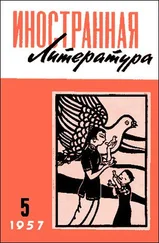Столь же чарующе звучало для него и другое выражение, очень часто встречавшееся в проповедях пастора Паульмана, – вершины разума , и тому были особые причины, которые в дальнейшем не остались без последствий. Церковный клирос, где стоял орган и пел хор мальчиков, казался ему чем-то недосягаемым; часто он с тоской засматривался на него и не мечтал об ином счастье, как когда-нибудь подробно разглядеть чудесное устройство органа и то, что находилось рядом с ним, – ведь он мог видеть все это лишь издали. Эта фантазия соединялась у него с другой, привезенной еще из Ганновера, – уже там его приводила в восхищение некая башня, и он завидовал музыкантам городского оркестра, стоявшим на ее галерее и трубившим с высоты по утрам и вечерам.
Он мог часами разглядывать эту галерею, казавшуюся снизу очень маленькой, ниже колена, хотя головы музыкантов, дувших в свои инструменты, едва виднелись из-за ее парапета, и не отводить глаз от циферблатa, о котором люди, побывавшие наверху, уверяли, что он величиной с колесо телеги, хотя снизу выглядел не больше тачечного колеса. Все это до крайности возбуждало его любопытство, и он по целым дням не мог ни о чем другом думать и ничего желать, кроме как рассмотреть поближе галерею и циферблат.
Через звуковые отверстия над галереей можно было видеть и колокола, и Антон чуть ли не пожирал глазами это небывалое представление: огромная металлическая машина, производившая оглушительный звон, попеременно вздымалась и опускалась под действием железных балок, на которые ступали ногами люди, казавшиеся на большой высоте совсем крошечными.
Антону чудилось, будто он заглянул в глубочайшее чрево башни и ему открылся сокровенный источник чудесного звука, которому он прежде с волнением внимал лишь издалека. Однако это нисколько не утолило, но напротив, еще больше разожгло его любопытство: он видел лишь один гигантский бок вздымавшегося колокола, но не весь колокол целиком. О величине этого колокола он слышал еще в детстве, и воображение увеличивало его несчетно, рождая в душе самые романтические и невероятные фантазии.
В те времена, когда он страдал от боли в ноге, томился под родительским гнетом, – в чем находил он утешение? Что было сладчайшей мечтой его детства, заветнейшим желанием, заставлявшим его забыть обо всем на свете? Не что иное, как поближе рассмотреть циферблат и галерею на башне в новой части Ганновера, а заодно и колокол, который там висел.
Более года игра фантазии скрашивала печальнейшие часы его жизни, но ему пришлось оставить Ганновер, увы, так и не осуществив своей заветной мечты. Однако образ башни никак не шел у него из головы, последовал за ним в Брауншвейг и часто являлся ему во сне – высокие лестницы, лабиринты извилистых переходов: он поднимается на башню, стоит на галерее, с невыразимым наслаждением прикасается к башенному циферблату и внутренним зрением вблизи осматривает большой колокол, бесчисленные маленькие колокола и другие чудесные вещи, пока не ударяется головой о неохватный край большого колокола и не просыпается.
Вот почему стоило пастору Паульману заговорить о вершинах разума , как Антон с замиранием сердца вспоминал о вершине облюбованной им башни, о ее колоколе и циферблате, о высоких хорах, где помещался орган в Брюдернкирхе, и тогда в нем снова оживала тоска и при словах вершины разума из глаз текли слезы печали.
Умозрительную часть проповедей, произносимую пастором Паульманом с невероятной быстротой, Антон не улавливал, потому что не мог поспеть за ним своей мыслью. Но в ожидании увещевательной части он и эту слушал с большим наслаждением – ему казалось, будто сперва собираются тучи, чтобы чуть позже их рассеяла благодатная гроза или растворил теплый дождь.
Но однажды он пришел в церковь с намерением послушать проповедь пастора Паульмана и по возвращении домой записать ее. Внезапно туман в душе его прояснился – внимание сосредоточилось на другом: раньше он слушал сердцем, теперь же впервые стал воспринимать разумом и жаждал не только потрясения от того или иного места, но хотел уловить весь смысл проповеди целиком, и умозрительная ее часть увлекла его не меньше, чем увещевательная. Проповедь посвящалась любви к ближнему: сколь счастливы были бы люди, если бы каждый радел о благе остальных, а все – о благе каждого в отдельности. Эта проповедь, со всеми ее пунктами и подпунктами, прочно запечатлелась в его памяти, он слушал ее с намерением записать, что и сделал, вернувшись домой, после чего прочел ее вслух Августу, чем привел его в изумление.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу