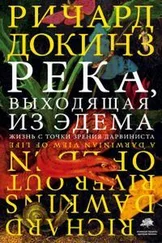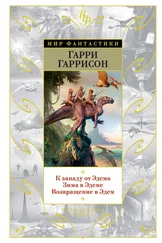Я уже касался темы генетики, которая занимает в этой книге достаточно видное место. Основную часть ранней истории человечества за последние 2,5 млн. лет можно реконструировать благодаря объединению выводов исследований ископаемых костных останков и изучения климатических периодов. Все виды человека, кроме одного, вымерли, причем некоторые из них — очень давно, поэтому в данном исследовании мы не учитываем их гены. Это не означает, что генетика не в силах поведать нам ничего существенного о темных эпохах эволюции человечества, предшествовавших выходу на арену истории людей современного типа.
В 1970е годы некоторые генетики начали применять сырые иммунологические средства для замеров аналогий уровня содержания протеина у представителей разных видов и установили, что человек и шимпанзе являются даже более близкими сородичами, чем это считалось прежде. Это заявление в свое время было встречено в штыки, но затем, когда методы сравнительного исследования переключились с иммунологии на демонстрацию базового генетического сходства, а затем и на замеры конкретных генетических различий, их авторы были оправданы и реабилитированы. В ученой среде созрело понимание того, что мы, люди, гораздо ближе к шимпанзе, чем к другим крупным приматам — гориллам и орангутангам, с которыми пути наших предков на генеалогическом древе разошлись немногим более 5 млн. лет назад(33).
Было бы несправедливо утверждать, что мы, люди, вообще не унаследовали никаких генов от исчезнувших видов гоминидов. Наоборот, большинство генов в наших клетках как раз унаследовано нами от вымерших видов гоминидов и приматов. Некоторые гены человека встречаются в останках некоторых видов приматов, вымерших задолго до нашего появления на Земле. Не так давно ученые выделили слабые фрагментарные следы митохондриевой ДНК в целом ряде костей неандертальца, и сегодня они практически в состоянии ответить на главный вопрос: в каком именно родстве мы с ними находимся и присутствуют ли хотя бы некоторые их гены в клетках людей современного типа?
Впрочем, в этой книге нас в первую очередь интересует подлинная революция в понимании генетической предыстории человечества за последние 200 тысяч лет. Новые открытия в области генетики вторглись в ту туманную и неизученную сферу, в которой прежде доминирующее положение занимали маловыразительные коллекции каменных орудий из Европы и Африки да немногочисленные фрагменты скелетов, плохо поддающихся датировке. Прежде чем обратиться к детальном рассмотрению следов генов, на мой взгляд, будет небесполезно познакомиться с некоторыми идеями, связанными с генетической наследственностью и ее принципами. Эти концепции по большей части достаточно просты и связаны с нашими расхожими представлениями о наследственности, однако их нередко истолковывают в превратном свете, что объясняется либо сознательным обманом, либо тем, что они изложены на невразумительном «научном» жаргоне.
Секреты горошин
Идея генетической наследственности знакома людям с тех пор, как им удалось одомашнить целый ряд видов диких животных и растений. Скотоводы издревле предпринимали целенаправленные попытки устранять в стаде такие нежелательные признаки, как чрезмерный рост или агрессивность поведения1. Селекция зерновых культур осущест
1 Один из древнейших методов селекции с целью получения животных с определенными признаками описан еще в первой книге Ветхого Завета — книге Бытия. В ней рассказывается, что патриарх Исаак попросил у своего тестя, Лавана, в награду за многолетний труд «скот с крапинами и пятнами» Такого скота в стаде Лавана было очень мало, и тот охотно согласился. Исаак же, стремясь увеливлялась путем отбора наиболее крупнозерных и урожайных сортов. Однако большая часть так называемых фермерских навыков была основаны на ошибочных посылках, хотя последние и носили функциональный и практичный характер. Интерес к выяснению точных механизмов и законов, определяющих работу факторов наследственности, резко возрос в середине XIX в. после выхода в свет фундаментального труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов»1, однако по сути понимание принципов наследственности, изложенное Дарвином, оказалось немногим более глубоким, чем у его предшественников. Зато другой его современник, австрийский священник и ботаник Грегор Иоганн Мендель, живший в XIX в., впервые сформулировал логические принципы осмысления того, каким образом осуществляется наследственная передача тех или иных наследственных признаков. Его выводы были основаны на обширных математических расчетах принципов наследования цвета и формы гороха.
Читать дальше
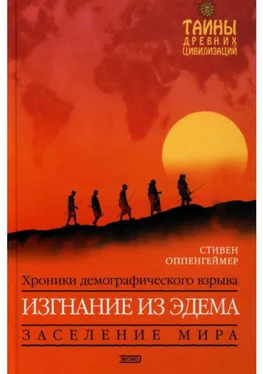

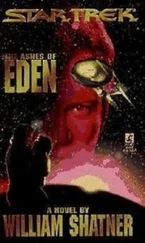
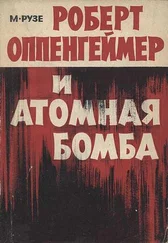
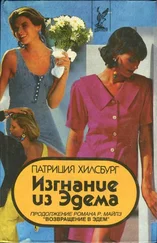

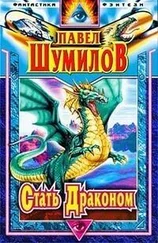
![Ричард Докинз - Река, выходящая из Эдема [Жизнь с точки зрения дарвиниста]](/books/393180/richard-dokinz-reka-vyhodyachaya-iz-edema-zhizn-s-to-thumb.webp)