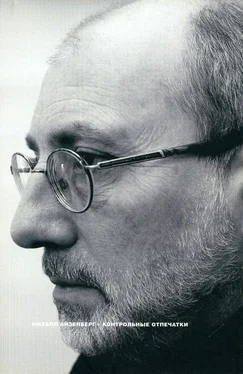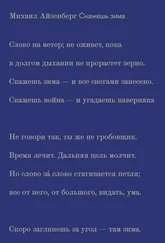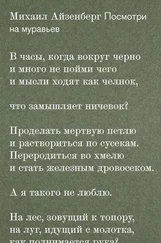Меня даже не удивляло его полное неучастие в тех прощальных церемониях, что кончались надрывом, растравой и проч. (Попрощался – и прочь.) Это было в порядке вещей. Вообразить Лёню не то что плачущим, но, скажем, откровенно растроганным было невозможно. И не потому, что он был какой-то скрытный или слишком сдержанный человек, – вовсе нет, напротив. Но это было не по его части. «Так плакать хочется, а слезы не идут».
А мы вели себя кое-как, дружно портили сценарий. На аэродроме Лёня постарался, чтобы все провожающие встали в ряд, и потом обошел весь ряд с короткими скупыми объятиями. Но когда процедура окончилась, открылась мгновенная пауза, секундная накладка в сценарии, и Фульмахт, конечно, влез по второму разу, за ним и я, и все вдруг опомнились: это же в последний раз .
– Это что – опять? – Лёня рванулся из наших лап и шагнул к проходу.
Наш первый телефонный разговор совсем не получился. Я вообще впервые разговаривал с заграницей. Было очень плохо слышно. Я кричал «алё» и слышал только слабое эхо собственного голоса. После третьего «алё» отдал трубку, поняв, что все равно не смогу произнести ни слова. Второй по счету разговор был более содержательным, и Лёня отозвался о нем с одобрением: «Хорошо на этот раз поговорили. Степенно». (То есть я не рыдал.)
В тоске тех «отъездных» лет было что-то невероятное: какое-то вселенское чувство потери, даже превышающее тяжесть реальных расставаний. Уезжали люди, в которых я заключил часть себя. Я как будто расставался с собой, терял самого себя. И цеплялся за эту жизнь, уже готовую разбежаться во все стороны.
«Не покидает ощущение, что если раньше жизнь шла как репетиция, то теперь началась на удивление халтурная премьера. Какая-то дыра в панцире, и сквозь нее посторонний ветер освистывает все наши начинания» (это уже из моего письма семьдесят третьего года).
Лёнин отъезд поменял весь ход моей жизни. Она сразу лишилась той естественной, машинальной поступательности, о которой молодой человек даже не задумывается и просто исполняет некое возрастное восхождение (как бы подрастает в год на вершок). Это бездумное прирастание стало вдруг невозможным. Исчезла последовательность, и жизнь пошла в разные стороны – рывками, кусками. Теперь «просто жить» значило не осознавать себя, дать жизни непозволительную власть над собой. Позволить ей выедать себя изнутри. Нужно было что-то с ней, с этой жизнью, делать. Замедлить ее преждевременное убывание, хоть что-то удержать при себе. Это стало главной задачей. Странной, согласитесь, для человека двадцати четырех лет.
Действительно – «дыра в панцире». Можно сказать и так: то костное вещество или какая-то известь, что шла в позвоночник, теперь уходила на восполнение внешней защитной оболочки. Продолжаться можно было только собственным волевым усилием. И, может быть, единственная реальная работа тех лет – это попытка выйти за собственные, заданные органикой, пределы, границы. Уехать за границу или выйти за границу – так или иначе. Уже не сосчитать, сколько лет продолжалась эта нервная, назойливая апатия – как перед грозой. Собственно, решалась судьба.
Потом все собралось снова, но небрежно и наспех. И оказалось много лишних деталей. Светлые дни снова пооткрывались, но свет изменился. Не скажу, померк, но совершенно лишился способности слепить.
Сейчас это уже трудно понять. Когда расстояние опять стало географическим понятием, мгновенно исчезла и вся связанная с ним самодельная метафизика.
В начале нашей переписки – с обеих сторон – много писем без обращения, безо всякого «здравствуй». Это явное влияние Зиника, который начал писать нам письма еще до всех отъездов, а сам Зиник подражал в этом своему литературному наставнику Павлу Улитину.
В какой-то период Лёня вдруг начал обращаться ко мне на «Вы». Тогда это было необъяснимо, не прояснилось и впоследствии. Но взросление и «воспитание чувств» постепенно сказывались, изменялась письменная интонация – сближалась с устной. Мы постепенно учились разговаривать в письме.
Еще до установления налаженной почтовой связи Лёня передал через общего знакомого просьбу писать простые письма. Все последующие тридцать лет я пытался выполнить его просьбу, но, кажется, не преуспел. Лёнины письма более соответствуют заявке. Там гораздо чаще встречаются прямые сообщения, не плутающие по литературным околицам.
К восьмидесятым годам стиль наших корреспонденций в общем устоялся и не слишком менялся с переменой тематики: как у военного журналиста, отстукивающего свою тысячу слов то про гулянку на привале, то про страшный прорыв на левом фланге. А первый прорыв был еще в семьдесят девятом году, в мае. Я получил тогда открытку про обнаружившуюся страшную болезнь: несколько строчек сухой информации. Читая его слова через полмесяца после их написания, я начинал чувствовать тот же ноющий спазм в левой стороне груди, души. И был чуть ли не рад этой боли, как живой связи с моим другом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу