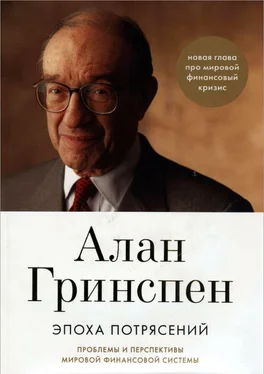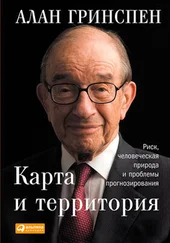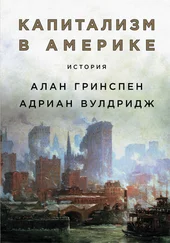Но почему же производительность не повышалась еще быстрее? Нельзя ли было, скажем, уже к 1980 году расширить наши знания до уровня 2005 года и обеспечить удвоение темпов роста производительности (и уровня жизни) в период с 1955 по 1980 год? Ответ очевиден: человеческий интеллект имеет свои пределы. История свидетельствует, что в долгосрочной перспективе рост производительности в экономике с передовыми технологиями не может превышать 3% в год. Для практического применения новых идей требуется время, а влиять на уровень производительности эти идеи начинают через десятилетия. Пол Дэвид, профессор истории экономики Стэнфордского университета, в 1989 году написал статью, в которой попытался разрешить известный парадокс нобелевского лауреата профессора Массачусетского технологического института Роберта Солоу: почему «мы видим компьютеры повсюду, но только не в официальных цифрах роста производительности»?
Именно статья Дэвида пробудила во мне интерес к анализу долгосрочных тенденций производительности. В ней говорилось, что нередко проходили десятилетия, прежде чем новое изобретение становилось достаточно распространенным и начинало влиять на производительность. Автор приводил пример постеленного вытеснения в США парового двигателя электрическим.
После того как в 1882 году Томас Эдисон осветил южный Манхэттен электрическими фонарями, потребовалось примерно 40 лет. чтобы электрифицировать всего лишь половину американских заводов. Электроэнергия продемонстрировала свое безусловное превосходство над паром только после Первой мировой войны, когда ушло в прошлое целое поколение многоэтажных заводов. Дэвид наглядно объясняет причину такой задержки. Самые лучшие заводы тех дней были не приспособлены к новым технологиям. Они оснащались так называемыми групповыми приводами — сложными комбинациями валов и шкивов, которые передавали энергию от центрального источника (парового двигателя или водяной турбины) к станкам. Чтобы избежать потерь энергии и поломок, длину приводных валов приходилось ограничивать. Лучше всего это удавалось, когда заводские корпуса росли в высоту: один или несколько валов на этаже могли приводить в действие целую группу станков 135 135 Помню, в 1960-е годы я побывал на штамповочном заводе, узкое и высокое здание которого было построено на рубеже веков. Меня поразила его необычная форма. Лишь десятилетия спустя я узнал, что мне довелось посетить один из последних реликтов определенного этапа истории американской промышленности.
.
Простая замена существовавших агрегатов для вращения приводных валов электродвигателями не давала существенного повышения производительности. Владельцы предприятий понимали, что для реализации колоссального потенциала электричества потребуются более радикальные изменения: в условиях передачи энергии по проводам центральные источники энергии, групповые приводы и сами здания, в которых они размещались, становились устаревшими. Электричество позволило оборудовать каждый станок собственным небольшим мощным двигателем, в результате чего стали появляться просторные одноэтажные заводские корпуса. В них было удобно компоновать станки для достижения максимальной производительности. обеспечивая беспрепятственную подачу материалов. Но перемещение заводов из тесных городов в сельскую местность шло медленно и требовало больших капиталовложений. Вот почему, по мнению Дэвида, на электрификацию американской промышленности потребовались десятки лет. Но в конечном итоге одноэтажные заводы, использующие электроэнергию. сформировали промышленный пояс Среднего Запада, и рост часовой производительности начал ускоряться.
Низкая инфляция и низкие процентные ставки начала 1960-х годов, насколько я могу судить, явились следствием коммерческого применения военных технологий Второй мировой войны, а также внедрения многочисленных нереализованных изобретений 1930-х годов 136 136 Низкая инфляция отражала стабильный уровень трудозатрат на единицу продукции в несельскохозяйственных отраслях, что явилось следствием заметного роста производительности. Этот рост был обусловлен в первую очередь внедрением ранее изобретенных технологий и увеличением соответствующих инвестиций. Профессор Дэвид продемонстрировал наличие значительного временного разрыва между появлением новых технологий и их влиянием на ускорение роста совокупной производительности, что является показателем внедрения технологических и прочих новшеств. Безынфляционный период длился всего несколько лет и завершился с началом вьетнамской военной кампании. Окончание холодной войны принесло с собой более продолжительное отсутствие инфляции.
. Десятки лет спустя «отсроченный» всплеск производительности повторился: сейчас мы видим компьютеры (и Интернет) повсюду, включая официальные показатели роста производительности 137 137 Рост производительности в последние десятилетия во многом обусловлен постоянным усовершенствованием и развитием взаимосвязанных технологических сетей. На фоне инновационных процессов существующие сети постепенно устаревают, и их заменяют новыми. Эффективность и производительность повышаются. Но в любой произвольно взятый момент лишь часть уже известных технологий находит практическое применение. Из года в год руководство компаний обнаруживает, что не более половины действующего оборудования соответствует современным технологиям. В тоже время процесс строительства новых сетей идет постоянно. Таким образом, после завершения очередного этапа можно ожидать нового повышения производительности. А темпы роста производительности зависят от того, будут ли новые сети полностью задействованы, скажем, через два или через четыре года.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу