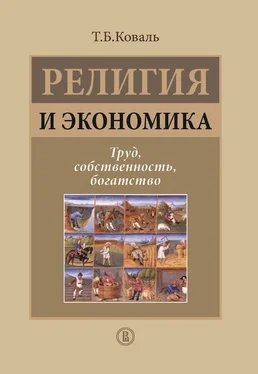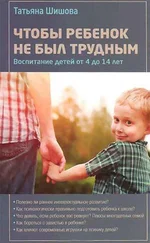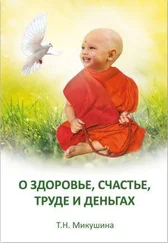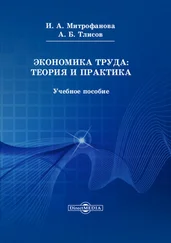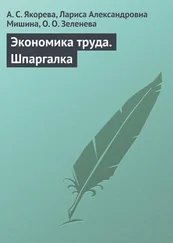Деление на варны и касты было связано с учением о карме. Это учение вышло за пределы индуизма, его разделяют практически все индийские духовно-религиозные школы и направления.
Закон кармы связывал религию и социальную действительность в одно целое. Считалось, что в жизни нет ничего случайного, и мы пожинаем то, что посеяли. Желание, мысль, поступок определяют улучшение или ухудшение кармы. В первую очередь речь шла об улучшении или ухудшении кармы в новых рождениях, поскольку закон кармы предполагал веру в реинкарнацию, т. е. перерождение души. В зависимости от добродетелей и грехов человек может либо родиться в семье, принадлежащей к высшей варне, или даже среди небожителей, либо оказаться в более низкой касте и влачить жалкое нищенское существование, не говоря уже о перерождении в животных или насекомых. Могут быть и еще значительно худшие варианты перерождений.
«Идея кармы имела огромное психологическое значение, став регулятором индивидуального и социального поведения десятков поколений индийцев, – отмечает Л.С. Васильев. – С одной стороны, она была могучим стимулом, диктовавшим соблюдение высоких этических стандартов, определявшим характерное для индийца заботливое и благожелательное отношение к природе, к братьям нашим меньшим, в каждом из которых можно было ожидать увидеть переродившегося человека, может быть, твоего недавно умершего и горячо любимого родственника или друга. С другой стороны, она уводила людей в свой индивидуальный угол, побуждала их к эгоистическому стремлению улучшать свою карму, заставляла угнетенных и несчастных не роптать – сами виноваты!» [118] Васильев Я.С. Указ. соч. С. 102.
Не случайно поэтому Индия, в отличие от Китая, почти не знала крестьянских движений, целью которых было восстановить социальную справедливость. Не улучшения социальной жизни, а индивидуальное спасение, освобождение из круга перерождений было для многих поколений индийцев самым важным. И основная причина этого – концепция кармы, впервые сформулированная в Упанишадах.
Таким образом, сословная, профессиональная и имущественная ситуации, в которые попадал человек при рождении, воспринимались как расплата за грехи, совершенные в прошлых жизнях, или, напротив, как справедливое воздаяние за добродетель и совершенные подвиги.
Кроме того, социальное неравенство закреплялось учением о дхарме , под которой в индуизме подразумевались нравственные заповеди и принципы поведения.
Существовала так называемая общая дхарма , предназначенная всем без исключения людям. К ней относились: самоотречение (тапас); терпение (дана), правильное поведение (арджавам); честность и правдивость (сатьявачанам); ненасилие или непричинение зла живому (ахимса).
Общая дхарма предусматривала освобождение от эгоистических желаний, к которым, в частности, относились жадность, стремление к богатству, привязанность к собственности. Индийские учителя мудрости предостерегали от эгоизма и рабства перед внешними вещами. «На дороге, которая ведет к богатству, многие люди погибают»; «Нет человека, который мог бы сделаться счастливым при помощи богатства» [119] Цит. по: Радхакришнан С. Указ. соч. С. 180.
.
Наряду с общей дхармой существовала еще более важная – кастовая дхарма. И если ее принципы приходили в противоречие с установками общей дхармы, следовало ориентироваться на кастовую. Таким образом, в концепции кастовой дхармы тесно переплелись представления о религиозной добродетели и профессиональном долге. Без безукоризненного исполнения своих профессиональных обязанностей (жреца или воина, ремесленника или крестьянина, слуги или мусорщика из касты неприкасаемых) нечего и мечтать о благоприятной карме, надеяться на лучшую долю в будущих рождениях. Поэтому говорилось: «Лучше плохо выполнить свою дхарму, чем хорошо – чужую».
В одном из важнейших эпических произведений индуизма более поздней эпохи – Бхагавадгите – есть очень показательная в этом отношении сцена. Перед началом битвы главный герой – воин Арджуна – ведет беседу со своим другом божественным Кришной, который исполняет обязанности возничего, управляющего колесницей героя. Арджуна – храбрый воин, он не боится погибнуть в сражении. Но страшится совершить грех – убить горячо любимых близких и друзей, которые волею судеб оказались в стане врагов. Зачем ему победа, которая достанется такой ценой? Может, лучше позволить врагам убить себя, но не убивать ближних? В словах Арджуны содержится, казалось бы, совершенно ясная логика приверженца ненасилия (ахимсы). Ахимса относится к общей дхарме. Ее должны соблюдать все люди. Но как же быть воинам, чей профессиональный долг убивать? Божественный Кришна убеждает Арджуну без колебаний вступить в бой. Кришна разъясняет, что мир вообще лишен смысла, он есть лишь игра сверхъестественных сил, в которой все уже предопределено – кому остаться в живых, а кому погибнуть. Однако человек, знающий эту истину, не может выйти из игры и оставаться пассивным наблюдателем. Он обязан включиться в эту игру, затеянную богами, и выполнить свой долг в соответствии со своим сословно-кастовым положением. В данном случае речь идет о долге человека, принадлежащего к касте «кшатриев» – воинов и правителей. «Если ты не исполнишь свой религиозный долг, и не будешь сражаться, то совершишь грех пренебрежения долгом» (Бхагавадгита. 2:32–33) [120] Бхагавадгита как она есть. Поли. изд. с подлин. санскрит, текст., русск. транслитер., дослов. и лит. пер. и подроб. коммент. Шри Шримада А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхактиведанта Бук Траст. М.; Л.; Калькутта и др., 1971. С. 80.
. Поэтому, как говорит Кришна: «Победи своих врагов и наслаждайся процветающим царством. По моему замыслу все они уже погибли; ты же можешь быть лишь Моим орудием в этом сражении» (Бхагавадгита. 11:33) [121] Там же. С. 547.
.
Читать дальше