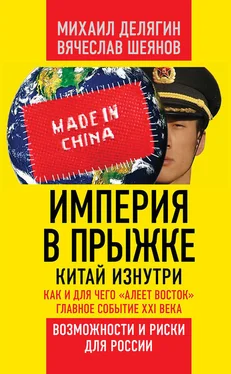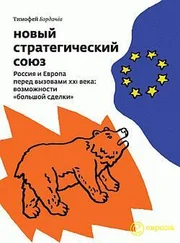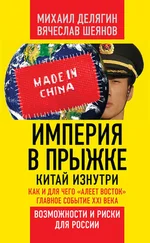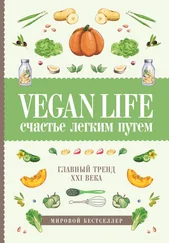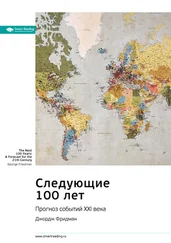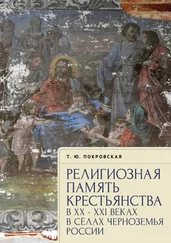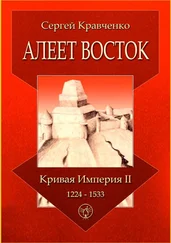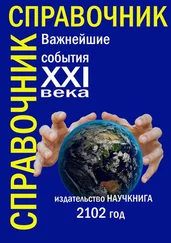С другой стороны, понимая в силу стратегичности мышления главное в каждый отдельно взятый момент времени, китайские руководители привыкли концентрировать все силы именно на этом главном, не отвлекаясь на второстепенные вопросы. В результате их деятельность сопровождается часто большими диспропорциями и погрешностями, но главные для себя задачи они решают быстро и хорошо.
Принципиально важно, что главное для них отнюдь не обязательно является главным для их подчиненных и тем более для сторонних наблюдателей. Поэтому поведение китайских руководителей иногда кажется иррациональным для тех, кто ошибается в оценке их мотиваций и приоритетов (простейший пример – восприятие иностранными современниками «культурной революции»).
«Они отнюдь не скородумы, но мыслят и действуют очень системно», – таково общее впечатление от китайских руководителей самого разного уровня и в самых разных сферах.
Возможно, играет свою роль и жесткая конкуренция, существующая внутри китайского общества просто в силу его масштабов. Для того, чтобы занять руководящую должность, сопоставимую с должностью своего европейского коллеги, китаец должен победить значительно большее число своих потенциальных соперников и, соответственно, обладать, как минимум, значительно большими конкурентными способностями, – хотя и с учетом глубокого отличия организации конкуренции в Китае от конкуренции на Западе.
Существенно, что стратегичность и системность поведения буквально «в крови» и у обычных китайцев, не сделавших карьеры. Вероятно, эта особенность национальной культуры имеет, прежде всего, исторические причины: крайняя тяжесть повседневных и массовых условий жизни требовала от многих поколений подряд не только энергии и упорства, но и продуманности действий и, более того, выработки и неукоснительной реализации жизненных стратегий.
Недаром именно в Китае традиционные для всех народов притчи оказались отлиты в уникальной форме «стратагем», в предельно емкой форме выражающих те или иные стратегии поведения. Это не отдельно взятые принципы поведения, обычные для пословиц и поговорок (вроде «не плюй в колодец – пригодится воды напиться» или «не имей сто рублей, а имей сто друзей: деньги отнимут, а друзья останутся»), а именно методология длительных действий в различных ситуациях.
Можно предположить, кстати, что именно в силу тактического характера западного и стратегического характера восточного мышления на Западе достигали успеха, как правило, выдающиеся стратеги, а в Китае, скорее, тактики: и те, и другие сталкивались с относительно низким уровнем конкуренции, так как обладали дефицитными для своих обществ качествами.
2.3. Прагматизм: подлинная религия китайского народа
Народ, сам создавший свое государство, обычно находит свои собственные, оригинальные социальные технологии его поддержания и развития, в которых (в силу важности государственного организма для общества) ярко и концентрированно выражаются особенности его культуры.
В истории Китая таким символом национальной специфики представляется прием на чиновничьи должности по результатам экзаменов.
Стоит напомнить, что не только в боярской допетровской России, но и на «просвещенном Западе» государственные должности столетиями распределялись, как правило, на основании принципов знатности и лишь в лучшем случае – личной преданности (и дай бог, если главе государства, а не одного из многих грызущихся кланов). С развитием рыночных отношений должности стали продаваться – и этот метод «отбора» с незначительными модификациями продержался во многих развитых (и даже лидирующих в тогдашнем мире) странах вплоть до конца XIX века, – с более или менее катастрофическими последствиями.
На этом фоне «отсталый» средневековый Китай выглядит недосягаемым мировым лидером в области управленческих и в целом социальных технологий.
«Жертвы ЕГЭ» привыкли обращать внимание на вполне современную прозрачность, публичность и объективность средневековой китайской экзаменационной процедуры (намного превышающая по этим критериям, скажем, современную аттестацию российских государственных служащих), то есть на качества, наиболее рекламируемые либеральными реформаторами в настоящее время.
Однако не менее важным представляется то, что экзамены на высокие должности проводились на территории императорского дворца, а часто и в присутствии императора, что придавало им сакральный характер. Таким образом, процедура проверки знаний (правда, начетнический и оторванный от жизненных нужд характер такого обучения превращал экзамены в способ проверки не столько самих знаний, сколько способности упорно учиться) не только была необходима для назначения на государственную должность, но и являлась, по сути дела, священнодействием.
Читать дальше