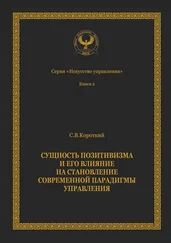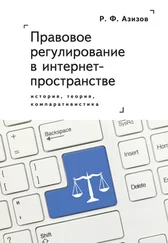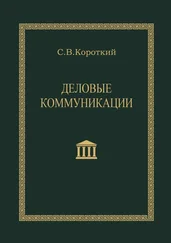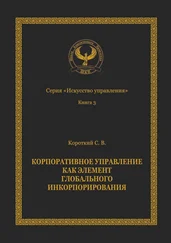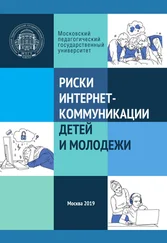В качестве примера, разрушающего целостность онтологических оснований анализа отношений между политикой и управлением, А.И. Соловьев приводит взаимооппонирование биополитической и социоцентристской версий политики. Как пишет этот исследователь, «…даже единое смысловое ядро взаимодействия политики и управления (с учетом всего разнообразия оттенков и аспектов этих связей) всегда вычленяет особые свойства этих явлений, а следовательно, и содержание соответствующих понятий. Одним словом, контекстуальное сопоставление политики и управления выступает как предпосылкой идентификации присущих им смыслов, так и процедурой уточнения соответствующих когнитивных схем. Так что, на наш взгляд, рассматривая соотношение политики и управления, уместнее и целесообразнее говорить о мультиаспектном, разноуровневом характере сопоставления анализируемых явлений. А следовательно, и соответствующем отображении содержания этих явлений и их взаимосвязей в теории» 53.
Следует констатировать, что, несмотря на различную аргументацию своей позиции, значительное число авторов склоняются к точке зрения, согласно которой политика и управление являются понятиями, не подлежащими разграничению.
Тем не менее в рамках другого сформировавшегося подхода феномены политики и управления приобретают различное звучание и наполнение, позволяя говорить о том, что политика и управление – самостоятельные феномены, определенным образом соотносящиеся между собой. При этом само понимание соотношения политики и управления в рамках данного подхода у разных специалистов далеко не одинаково.
Попытки разделить политику и управление как два самостоятельных феномена начались, на наш взгляд, с работы В. Вильсона «Изучение публичного управления» 54. В рамках данного труда он сформулировал дихотомическую концепцию, согласно которой между управленческой и политической деятельностью существуют принципиальные различия, определяющие и специфические для каждого из этих двух феноменов компетенции. В связи с наличием подобного рода различий, по мнению В. Вильсона, политикой и управлением должны заниматься представители разных профессий – политики и чиновники соответственно.
При этом для обеспечения сохранения и развития демократии в рамках дихотомической модели одним из ключевых условий представляется наличие непрерывного контроля со стороны политиков за деятельностью чиновников в своих администрациях. Одновременно с этим, в силу различий в политической и управленческой деятельности, смена ключевых политиков, возглавляющих администрации, не должна приводить к смене чиновничьего аппарата. Последний, обладая своей собственной управленческой компетенцией, должен быть способен решать управленческие задачи независимо от того, какой политик или политическая партия принимают решения, реализацию которых необходимо обеспечить в ходе осуществления управленческих процессов 55.
В 30-е гг. XX в. в западной науке была также разработана функционалистская модель, где управленческая деятельность трактуется преимущественно как процесс принятия решений, а политика – как обеспечение легитимности такого рода решений; при этом непосредственно управленческая деятельность относится к компетенции различного рода исполнительных и административных институтов, в то время как легитимация их деятельности становится функцией политических элит. В Советском Союзе данная модель нашла свое практическое выражение в формуле «Партия руководит, Советы управляют» 56.
В рамках достаточно популярной на сегодняшний день концепции политических сетей, разработанной в рамках парадигмы демократии участия и демократии совместного действия, политика представлена в качестве самостоятельного и ведущего вида управленческой деятельности, который легитимирует все остальные уровни управления и само управление в целом, приобретающее политический характер.
Ряд российских ученых придерживается сходных позиций относительно соотношения политики и управления, различая их в содержательном и функциональном аспектах. Так, по мнению В.И. Буренко, основной смысл управленческой деятельности заключается в целедостижении, тогда как политика, будучи одной из форм социального взаимодействия, проявляется в отношениях, связанных с наличием альтернатив и необходимостью выбора цели из числа нескольких имеющихся: «Если в управлении цель определена, то для политики характерно то, что здесь цель (цели) определяется, здесь осуществляется поиск выхода из альтернативной ситуации. Когда цель определена (преодолена альтернативность), можно говорить о том, что политика ушла. Пришло время управления. Чем дольше затягивается процесс выхода из альтернативного (политического) состояния, тем более затруднений для управления, оно становится невозможным… Политика возникает там, где есть проблемы, созревшие и осмысленные в обществе как альтернативы и к решению которых подключаются различные социальные силы – или к их решению, в результате разных причин, приобщается государство» 57.
Читать дальше