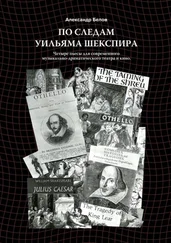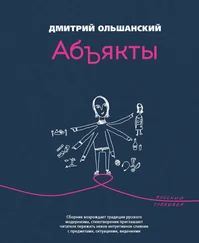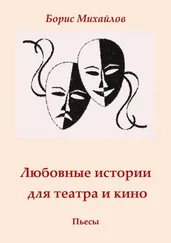Но было бы слишком наивно полагать, что театр захватывает нас только потому, что действие происходит в настоящем времени, а видеозапись несёт в себе отчуждение от сценического события и поэтому впечатляет нас меньше. Не стоит ставить знак равенства между реальным и присутствием. Памятуя о провале той метафизической традиции, которая сделала присутствие почти что демоном искусства, говоря об ауре шедевра, магнетизме оригинала, магии сцены, и связывала истину и присутствие: дескать, театр обладает большей подлинностью на том простом основании, что ты видишь живых людей, а не фиксацию на плёнку, и находишься с ними в одном пространстве и времени. Однако опыт кино доказывает нам, что воображаемая захваченность проективным образом может быть ничуть не меньше, для идентификации и эмоционального сопереживания совсем не обязательна близость и не обязательно присутствие.
Деррида показал всю мифологичность онтологии присутствия и противопоставления оригинала и копии, спонтанного и записанного; деконструкции удалось развенчать магию эффекта присутствия, живого «здесь и сейчас». Театр, для Деррида, представляет собой такое же письмо (сценографию), как и кино, только письмо по иной поверхности (и с иными последствиями, – стоит добавить мне), так же как хореография – идёт ли речь о классическом балете или о контемпорари дэнс – представляет собой письмо человеческим телом. Театральное «здесь и сейчас» перестало быть тем демоном, которым были заворожены классики психологического театра. Живое присутствие и уникальность момента не обязательно несут более родную человеку истину (коль скоро любое действие во времени и пространстве это уже письмо), точно так же как запись не обязательно связана с отчуждением и вторичностью.
Очевидно, что реальное означающего театра – более сложная вещь, чем простая очарованность сопричастностью и захваченностью эффектом «здесь и сейчас». Разработка театрального означающего ставит перед нами немало вопросов о статусе присутствия и его отношений с реальным: утрачиваем ли мы реальное в момент отделения от присутствия? Продолжает ли работать спектакль, записанный на плёнку, и как модифицируется событие, если оно записано на видео? Что находится по ту сторону чувственного восприятия? Что даёт театр человеку, коль скоро со-бытие, со-переживание и приобретение смыслов не исчерпывают все возможности театра и не отражают все средства этого искусства? – Все эти вопросы говорят о том, что присутствие сегодня лишилось привилегированного статуса провозвестника истины, но функция присутствия так и осталась за рамками интереса философов и теоретиков театра. Тем не менее, присутствие двояко: с одной стороны, оно вводит наличность, с другой стороны, оно же само является повторением, восполнением реального, на что указывал Лакан, когда говорил о рождении трансфера в ответ на присутствие аналитика. Присутствие другого уже само по себе наполняет сцену ожиданием, нетерпением, тревожностью, неуверенностью, поскольку напоминает об утраченном объекте и воспроизводит ситуацию fort/da. Именно об этом напоминает нам присутствие (речь идёт не только о появлении актёра на сцене или начале действия, а именно о fort-sein объекта, с которым зритель встречается в театре; Гедде Габлер у Камы Гинкаса достаточно открыть печку, чтобы сделать метафору материнства не только символически наполненной, но и реально объектной). По этой причине нельзя говорить о присутствии как о da-sein или о полноте бытия, но необходимо мыслить его как fort-sein, то есть как исчезновение, как завещание бытия. Возвращение утраченного реального – вот что делает театр, тогда как кино создаёт возвращение вытесненного.
Если в кино, основанном на символическом повествовании, достаточно просто устанавливается конвенция и столь же легко расторгается («если тебе страшно, то просто не смотри», – можно слышать от кинозрителей), то театр, наоборот, с некой принудительностью вводит зрителя в то реальное, которое неизбежно и всегда остаётся на одном и том же месте. В театре зритель неизбежно встречается с реальным. Деррида намекает на то, что театральный зритель имеет меньшую свободу: кинозритель всё же остаётся свободной личностью, со своей оценкой, в театре же она вовсе не требуется. По этой же причине истинная тревога от утраты самого себя возможна только в театре, тогда как кино вполне удачно работает со страхом и ужасом, которые конструируются символически.
Читать дальше
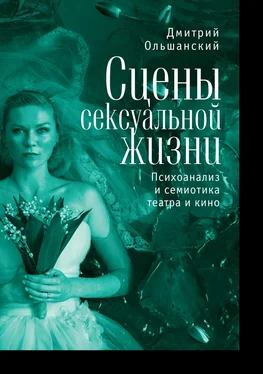
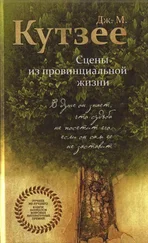
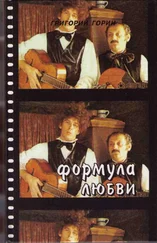

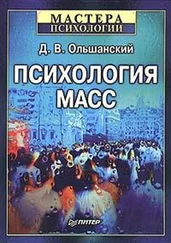
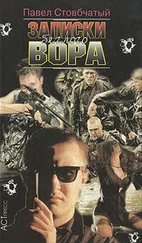
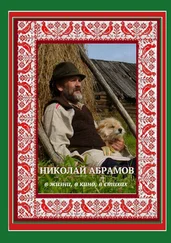
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)