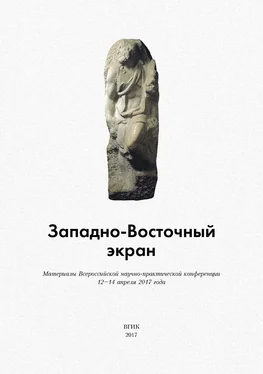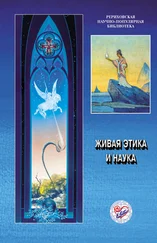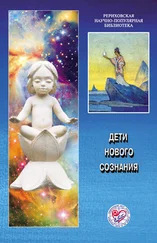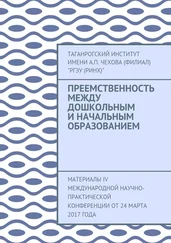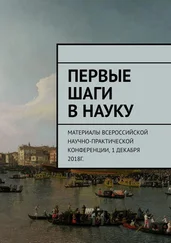<���…> Женщинам, снимающим паранджу, открывается свет знания и просвещения. Когда мы в первый раз видим девушку без паранджи, она читает. Сцена разрывается пополам титрами «…но взошел луч правды, луч правды ЛЕНИНА…». <���…>Идентифицируя себя с героинями «Песни первой», зритель также может увидеть свет этой правды, т. е. воспринять репрезентируемый мир, с точки зрения эмансипированных женщин, как воплощение победоносных ленинских идей, но он может встать на эту точку зрения только метафорически» [18] Щербенок А. «Взгляни на Ленина, и печаль твоя разойдется, как вода»: эстетика травмы у Дзиги Вертова // Травма: пункты / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: НЛО, 2009. С. 719–720.
.
«Три песни о Ленине» как бы естественным образом продолжились в «Колыбельной», только Ленин сменился Сталиным, а собирательный образ восточной женщины биологически (и не в меньшей мере идеологически) эволюционировал из юной девушки в женщину-мать, баюкающую дочь в колыбели. И вместе с тем сменяется заявленный в названии жанр песенно-поэтического фольклора: от изначально предполагающих коллективное и даже ритуальное исполнение песен – к интимно-семейной колыбельной. По мнению современного фольклориста К. Богданова, такая «социализация» жанра колыбельной песни имела идеологическую подоплеку: «Коммуникация колыбельного исполнения является изначально приватной: а сами колыбельные песни – одна из составляющих той сферы эмоционального и дискурсивного воздействия, которая, по мнению социальных психологов, может считаться определяющей для формирования детского характера. Это область первичного «семейного фольклора» или «семейного нарратива». Медиально-публичное пространство радиоэфира, концертного зала и/или кинотеатра делает ту же коммуникацию предельно публичной. «Семейный фольклор» становится в этих случаях общественным, «семейный нарратив» – общенародным» [19] Богданов К. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М: НЛО, 2009. С. 190.
. Неслучайно особая популярность колыбельного жанра, а здесь вместе с фильмом Вертова стоит вспомнить финальные сцены фильмов «Цирк» (Г. Александров, 1938) и «Подкидыш» (Т. Лукашевич, 1939) и, например, появившуюся в том же 1937 году «Колыбельную» казахского акына Дж. Джабаева, связана с тем периодом, когда советский социум все чаще и навязчивее ассоциировался с единой семьей, а Сталин – с отцом в этой семье.
В звуковой период своей истории среднеазиатские киностудии вступали не на рубеже 1920-30-х, как студии в западных странах и европейской части СССР, а накануне 1940-х. К этому моменту среднеазиатский культурный ландшафт приобрел новый, в сравнении с послереволюционным десятилетием, облик, связанный с окончательно формализовавшейся дифференциацией региона по национальному признаку. Теперь абстрактная «восточница» уступала место конкретной туркменке/казашке/ узбечке. В «Трех песнях о Ленине» и «Колыбельной» Вертов еще работал над конструированием собирательного образа «Восточной Женщины» как социально-исторического типа, стараясь с помощью риторических уловок примирить типажную «обезличку» 20-х с нарастающим «культом личностей» 30-х.
«Иногда этот образ “живого человека” собирал в себе черты не одного конкретного человека, а нескольких и даже многих соответственно подобранных людей. Мать, качавшая ребенка в “Колыбельной”, от имени которой как бы идет изложение фильма, превращается по мере развития действия то в испанскую, то в украинскую, то в русскую, то в узбекскую мать. Тем не менее мать в фильме как бы одна. <���…> Перед нами не мать, а Мать, не девочка, а Девочка. <���…> Понимание этого достигается только непосредственно с экрана. Не человек, а Человек!» [20] Вертов Д. О любви к живому человеку // Искусство кино. – 1958. – № 6. С. 99.
– писал Вертов в последней своей статье. Такого рода совокупные портреты представителей определенного сообщества во второй половине 30-х последовательно вытесняются индивидуальными крупными планами отдельных ударников социалистического строительства и производства.
Накануне войны в трех национальных кинематографиях Средней Азии практически синхронно вышли фильмы о знатных стахановках, типологически воспроизводящие сюжетные и идеологические паттерны «Члена правительства» (И. Хейфиц, А. Зархи, 1939) и «Светлого пути» (Г. Александров, 1940). Речь идет о туркменском фильме «Дурсун» (Е. Иванов-Барков, 1940), узбекском – «Асаль» (М. Егоров, Б. Казачков, 1940) и казахском – «Райхан» (М. Левин, 1940). Обращает на себя внимание отсутствие в этом ряду таджикского фильма [21] Можно заметить и отсутствие киргизского фильма, но в этой республике производство игрового кино начнется только в середине 1950-х, причем тоже с фильма о раскрепощенной девушке – «Салтанат» (В. Пронин, 1955).
, особенно если вспомнить, что именно образ девочки-таджички превратился в архетип восточной «стахановки». Я имею в виду 12-летнюю рекордсменку по сбору хлопка Мамлакат Нахангову, чье фото со Сталиным после съезда в Москве обошло всю страну и стало наиболее отчетливым визуальным воплощением мифологемы «отца народов».
Читать дальше