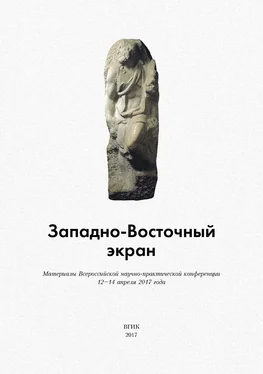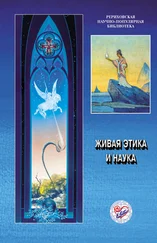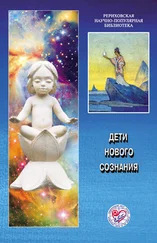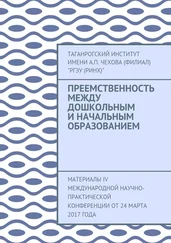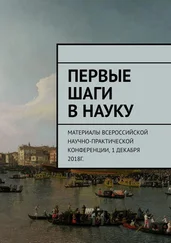Очень характерны в этом свете слова критика Р. Юренева, написанные по адресу сценария фильма «Айна» (Н. Тихонов, 1931): «Сценарий рассказывал о девочке-туркменке, восстающей против старых законов, унижающих и оскорбляющих женщину. <���…> Показывая в своей маленькой героине сильное и всепобеждающее чувство нового, веру в будущее, Смирнова раздвигала рамки довольно трафаретного сюжета, неоднократно уже использованного в среднеазиатской кинематографии. Ей удалось создать развивающийся, типический для советской женщины характер. И это было большим принципиальным достижением для тех лет» [9] Юренев Р. Предисловие // Смирнова М. Киносценарии. М: Госкиноиздат, 1952. С. 4.
. Между тем замечу, что фильм примечателен для нас сразу по двум причинам: во-первых, он считается единственной прижизненной экранизацией прозы А. Платонова, а именно рассказа «Песчаная учительница», во-вторых, для автора сценария М. Смирновой, которой в итоге было поручено доработать либретто самого Платонова, этот опыт стал очевидным прологом к важнейшей работе ее жизни – послевоенному сценарию «Воспитание чувств», на основе которого был поставлен фильм «Сельская учительница» (М. Донской, 1948) [10] Еще стоит отметить, что с этого фильма и азербайджанских картин «Севиль» (А. Бек-Назаров, 1929), «Алмас» (А.-Р. Кулиев, Г. Брагинский, 1936) и «Исмет» (М. Микайлов, 1934) берет начало традиция выносить в заглавие фильма о раскрепощении восточной женщины имя героини, которая будет неукоснительно соблюдаться в дальнейшем. Имя Айна, кстати, окажется особенно востребованным. В 1940-м году будет запущен в производство, но так и не закончен одноименный фильм на азербайджанской студии, а в «оттепель» выйдет новая «Айна» (А. Карлиев, 1960) в Туркмении. Айной окажется и главная героиня фильма «Цена жизни» (Н. Тихонов, 1940), снятого тем же режиссером, что и фильм 1931 года.
. Тем не менее, если характер Айны и был «развивающимся» и «типическим», как о том ответственно заявляет Юренев, он был абсолютно лишен характерных национальных черт. Более того, изначально героиня, как и в рассказе Платонова, была русской, идея сделать ее «националкой» была вынужденной и мотивировалась опережающим выходом в прокат фильма «Одна» (Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1931), с сюжетом которого пересекался исходный замысел «Айны».
Тавтологическое варьирование одной сюжетной схемы, вероятно, оправдывалось увеличением силы внушения от эффекта повторения. Ведь кинофильмы, не знающие литературного образовательного ценза, создавались в том числе с целью индоктринировать непосредственно в сознание восточной женщины определенную модель поведения. В отличие, к примеру, от издававшейся в конце 20-х серии популярных брошюр «Труженица Востока», рассказывающей «про восточных женщин, но не для них» и предназначенной исключительно «для остальной части советского народа, так как основной их функцией было информирование и создание образа» [11] Смирнова В. Национальная гендерная политика в СССР в конце 1920-х гг. (по материалам серии брошюр «Труженица Востока») // Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: материалы девятой международной конференции студентов и аспирантов (16–18 апреля 2016 года, Санкт-Петербург). СПб.: Издательство Европейского университета, 2015. С. 178.
, в фильмах этого же периода «восточницы» были не только персонажами, но и основным их адресатом.
Об этом свидетельствует в частности указание из «методички» по работе с фильмом «Ее право» (Г. Черняк, 1931): «Злободневная тема фильмы (сформулированная на титульном листе издания как «Раскрепощение женщины Востока и вовлечение ее в социалистическое строительство» – прим. А. А.) отражает одну из важнейших задач нашего социалистического строительства. <���…> Существенное место должен занимать в политокружении вопрос о работе среди женщин-националок, все еще находящихся под влиянием старых законов и обычаев. Особенное внимание этому должно уделяться в наиболее отсталых в культурном отношении республиках (Узбекистан, Таджикистан и т. д.). К работе вокруг фильмы необходимо привлечь, в первую очередь, работников местных секторов труда, жен-организаторов, работников общественного питания и других учреждений, освобождающих женщину от домашнего труда» [12] Шабанов А. Методразработка к фильму «Ее право». М.: Издательство управления кинофикации СССР, 1932. С. 3–4.
.
Правда, в этом случае стоит сделать оговорку относительно фильма «Ее право», эффектный финал которого позволяет выделить его из ряда стандартизированных лент на ту же тему. Приведу фрагмент синопсиса, опубликованный в той же «методичке»: «Таджи становится во главе женской бригады. Женская бригада вызывает бригаду мужчин на соревнование. Вызов принят. <���…> Пример бригады Таджи заражает остальных рабочих. Весь коллектив включается в эту борьбу. На первом месте бригада Таджи. Ее чествуют на общем собрании. Ее снимают для кино. <���…> Вечером после работы на полях колхозники идут в кино. Демонстрируется фильма, в которой показаны учеба и работа Таджи. Касым в зрительном зале. Когда на экране появляется Таджи, агитирующая за вовлечение женщин в производство, Касым бросается к экрану и острым кинжалом перерезает горло Таджи. Киномеханик перестает вертеть ручку аппарата. Изображение Таджи застывает на экране» [13] Шабанов А. Методразработка к фильму «Ее право». С. 2.
. В целом шаблонный сюжет разбавляется крайне любопытной сценой, где муж «убивает» киноизображение отбившейся от рук жены. Словно в само повествование интегрируется идея особой роли кинематографа в процессе раскрепощения женщин востока. Добавлю, что собравшиеся зрители резко осудили поступок Касыма, после чего он раскаивается и ищет примирения с женой, и в конечном счете находит его возле памятника Ленину в Ташкенте. Этот символический финал тоже имел весьма принципиальное значение: расставание с мужем уже не представлялось непременным условием трудового раскрепощения, как это было в подавляющем большинстве фильмов 20-х.
Читать дальше