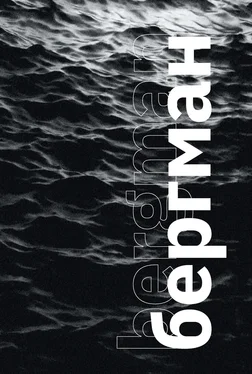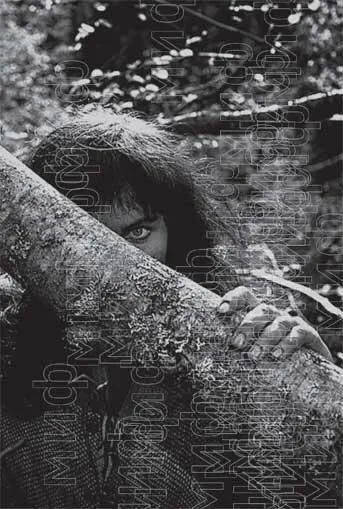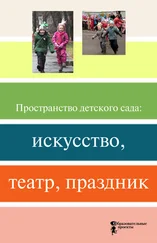Единственный раз Ингмар Бергман отказался от подобной организации художественного материала в своем последнем фильме «Фанни и Александр». Здесь все показано глазами Александра, и жизнь в доме кажется большим театрализованным представлением. «Ты не Гамлет, а я не королева датская», – говорит мать Александру, выйдя замуж за ненавистного мальчику епископа. Хотя зрителю ясно, что в этом фильме действует формула «Мир – театр, а люди в нем актеры»: и оказывается, что человек наигрывает себя в этом театре, а люди играют роли. «Все мы играем роли, кто-то кое-как, а кто-то старается». Это совершенно ломает всю концепцию времени, все понимание реальности. Отказавшись от понимания времени как чего-то раздвоенного на глубинное и поверхностное, Бергман пришел к пониманию единого времени – театрального. Для этого ему понадобилось поставить в центр повествования ребенка, жизнь которого меряется впечатлениями, и потому смерть главного актера в домашнем театре оказывается равносильной разрушению самого Дома. Может быть, в старости уже невыносимо смотреть в лицо Апокалипсису, но с переходом к восприятию мира как театра многие важные свойства кинематографа Бергмана уходят. «Нет ни времени, ни пространства, а реальность только основа, на которой воображение ткет свои узоры». Апокалипсис закончился? Или просто маленький Александр не дорос до раздвоения внешнего и внутреннего? Так или иначе, поверить Бергману на слово невозможно. Возможно, само «двойное время» стало играть роль внутреннего, ушло на задний план, выдвинув на первый – время театрализованное в качестве внешнего. И этот сюжет воистину обнадеживает: жизнь Бергмана обнаруживает в этом случае свойство прямой линии. Наверное, «необиблейской».
1996
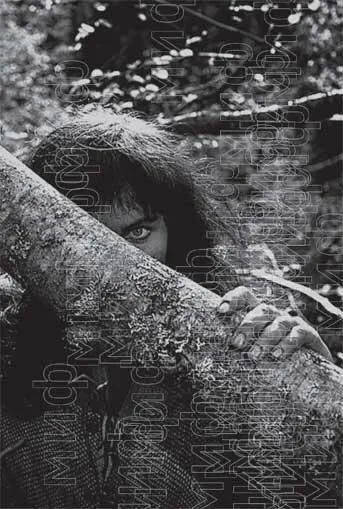
Миф – победа сюжета, победа действия и перипетии. В мифе вторичны интерпретация, мотивация и смысл, он завораживает самодостаточностью, а не заповедует, манит досказанностью, а не заинтересовывает финалом. Он синхронен, неотвратим и прост предрешенной, неизбывной простотой. «Дженни туфлю потеряла, долго плакала, искала. Мельник туфельку нашел и на мельнице смолол». Все.
Описывая работу над «Девичьим источником», Бергман подчеркивает, что его прежде всего интересовали не религиозные мотивы, а сама история убийства и мщения. Зрители, узнавая близкую славянскому сознанию картину двоеверия и религиозного синкретизма, видели за кровавой притчей конфликт христианки-девственницы и язычницы-блудницы, одна из которых парадоксально воскресает в мученичестве, а другая парадоксально гибнет во грехе.
Между тем за этой историей принципиально не стоит ничего. Она прекрасна и мудра сама по себе, и ее необъяснимая, чарующая окончательность порождена эстетикой самого события. Убийство героини происходит на полпути к церкви, на пути через лес и капище, на пути из тепла родительского дома, из утренней юношеской свежести, из капризного довольства всеобщей любимицы – в чужую хаотичную непредсказуемость.
Сам Бергман не просто заворожен мифом, он живет внутри него – но живет по своим правилам. Герой мифа движется из Дома – в Лес, от своего – к чужому. Казалось бы, в «Девичьем источнике» все та же идеальная сказочная траектория. Но здесь имеется и конечный пункт – церковь, недостижимое идеальное инобытие. Церковь – по ту сторону Дома и Леса, по ту сторону своего и чужого, явного и тайного; возможно, и по ту сторону мифа в целом. Бергмановская героиня Карин, вопреки канонам мифа, не одерживает победу над силами Леса, тем самым приобщая его к «своему» пространству. Она гибнет в Лесу от рук лесных людей. Лес неизменен, он, как и Карин, ценен своим постоянством и своей прямотой.
Другой мифологический стереотип, обыгрываемый Бергманом, – стереотип злой дочери и доброй падчерицы. У Бергмана беременная колдунья, приемыш, рабочая лошадка – явное зло и явная темная сторона, а своевольная, изнеженная белоручка Карин так же очевидно олицетворяет свет. И она поругана и убита не для того, для чего в «Морозко» вторая из сестер измазана дегтем и посажена на свинью. Карин слишком хороша для Леса. Она слишком целомудренна, безоглядна, неосторожна, царственно небрежна, у нее слишком нежные руки, слишком светлые волосы, слишком чистый лоб. Ее смерть, как всякая мифологическая смерть, – плодотворна, она порождает главное – зримое, осязаемое чудо источника. Так вся история обретает черты мифа о происхождении, в данном случае – происхождении источника, ибо результат мифа – результат мифического события, не аллегория и не дидактика, а обновление, до-создание физического мира. Энергия мифологической смерти, мифологического соития преобразует реальность в ее чувственном воплощении. При этом смерть Карин – не спасительная жертва, она одновременно разрушительна, поскольку уничтожает саму возможность абсолютной чистоты, абсолютной гармонии. Лес может присвоить ее и овладеть ею лишь убив. Карин и Лес несовместимы, как несовместима Карин и со своей темноволосой спутницей, и с вечером (старостью, увяданием, местью), и с тяжестью дальнего пути. Карин – утренний цветок. После ее смерти, как после смерти Авеля, сбывается смерть как таковая, сбывается смертность, бренность, конечность жизни. И месть не уравновешивает – она предсказывает грядущую ночь, завершает цикл, зовет закат. Чтобы научиться жить – приходится учиться убивать. Мифологическое время кончается – кончается время впервые происходящих событий. Наступает история, наступает культура – дурная бесконечность приукрашивающихся, обрастающих подробностями повторений. И действие логично переносится из произвола природы, из лесного классического просцениума – в тесноту рукотворных помещений, где свершается бессильный, бессмысленный акт мщения. И лишь под конец, в свете свершающегося чуда, дающего смысл произошедшему, – в свете рождения источника – герои выходят из Дома и идут в Лес, под открытое всевидящее небо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу