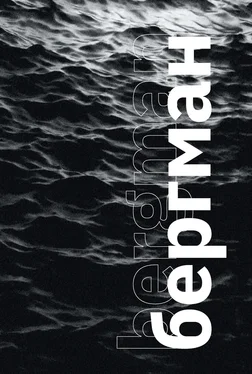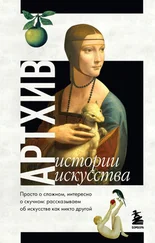Отблеск этих драм мы находим в фильмах Кшиштофа Занусси – режиссера, определившего лицо польского кино после Вайды. Ему одному из первых удалось вырваться из плена навязанных историей ролей. В фильмах Занусси, пускай и запущенных в социалистический обиход под грифом «морального беспокойства», вместо солдата и девушки мы опять встречаем мужчину и женщину или двух женщин – как у Бергмана. Занусси, будучи католиком, по-протестантски рационален в своих отношениях с божественным. Он, как и Бергман, посвятил себя изучению той полярной зоны, где стынут человеческие чувства. Но в нем нет ни славянского романтизма, ни скандинавской упорной одержимости.
У Бергмана был только один соперник в мировом кино, работавший на его же территории, – Кшиштоф Кесьлевский. Неважно, что они вышли из разных эпох, миров, культур, христианских конфессий, что их собственные религиозные установки не совпадали. Амедей Эйфр, искусствовед-теолог и католический кинокритик, вывел четыре формулы, в пределах которых распространяется христианская – в широком смысле – культура. «Присутствие Бога указывает на присутствие Бога» (Дрейер). «Отсутствие Бога указывает на отсутствие Бога» (Бунюэль). «Присутствие Бога указывает на отсутствие Бога» (Феллини). «Отсутствие Бога указывает на присутствие Бога» (Бергман). Кесьлевский, наполнив духовным электричеством «Декалога» банальные микрорайоны варшавских новостроек, нашел незанятую нишу в жесткой иерархии этой «тетрады», в которой не нашлось места даже Брессону. Когда польский режиссер не ощущает присутствия Бога, как в финале фильма «Три цвета: красный», он сам (разумеется, иронически) берет на себя его божественные функции и спасает своих любимых героев от гибели в морской катастрофе.
Бергман бы так не поступил, зато понял бы Кеслевского в другом. Отсутствие все же говорит о присутствии – если и не Бога, то человека, точнее, его двойника. В «Двойной жизни Вероники» так и случилось – одна девушка во цвете лет умерла в Польше, чтобы ее «двойница» пережила счастье любви во Франции. Количество счастья, как и свободы, по Кесьлевскому, в мире ограничено. И если чего-то прибывает в одном месте, значит, неизбежно убывает в другом. Кесьлевский, как и Бергман, верил не в предопределенность судьбы и не в метафизику, а во взаимообусловленность человеческих поступков. Не в абстрактную борьбу добра и зла, а в те физические и духовные силы, которые разрывают человека надвое и вместе с тем позволяют ему найти в мире свое прекрасное отражение. Неся в себе трагический опыт реального социализма, Кесьлевский заставил обе части Европы пусть не слиться, но хотя бы на миг увидеть одна другую – как в зеркале.

Прошли годы и десятилетия после краха коммунизма – и появилась «Холодная война» Павла Павликовского, где вайдовская оппозиция («мужчина и женщина» – «улан и барышня») подверглась ревизии в иронической ретро-реконструкции. Павликовский прошивает нитью любовной интриги полтора послевоенных десятилетия, лихо перебрасывает действие из Польши в Берлин, Париж, Югославию и – обратно в Польшу. Частная драма героев – руководителя фольклорного ансамбля музыканта Виктора и певицы-танцовщицы Зулы – оказывается вмонтирована в историю Европы, рассеченную железным занавесом. По одну сторону от него идет жизнь, прерываемая вспышками войн, по другую – перманентная война, горячая или холодная.
Павликовский – герой нового времени, освоивший постмодернистское пространство по обе стороны поверженного занавеса, – может себе позволить определенную свободу от польской традиции, но глубины Бергмана ему не достичь.
Не достичь и страстности Вайды. Ученик-отличник «польской школы» Павликовский работает на территории ее главных смыслов и даже как будто расширяет ее. В «Холодной войне» он строит сентиментально-патриотическую метафору, выводя героями-жертвами тех, кто был занят карьерой и личной жизнью, не особенно задумываясь о высоких материях. Сексапильная певичка с самого начала проявляла похвальный конформизм, сделав гвоздем своего репертуара советскую песенку из «Веселых ребят», а потом, когда изменилась атмосфера, перешла на джазовые ритмы. Едва не покорив крестьянско-славянским шармом Париж, Зула в итоге осталась в Польше, постукивая «кому следует» на своего возлюбленного. Надо сказать, и тот совсем не орел: поняв, что западное царство свободы есть на самом деле большой базар, пытался выгодно продать свою пассию. И вот оказывается, что эти авантюрные, но вовсе не героические люди, в сущности, обыватели от искусства все равно где-то в глубине души не могут без родины и фактически готовы за нее умереть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу