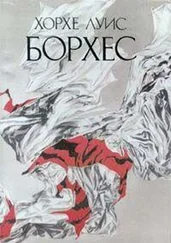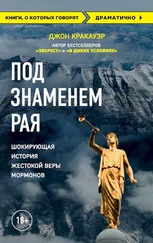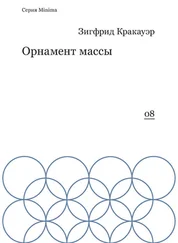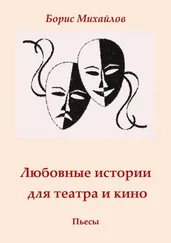Чтобы дополнить частностями общую панораму — занятие скучное и бесконечное, однако все же небесполезное, — следует, пожалуй, поговорить еще о комедиях, выходивших в эту эпоху. На этом поприще снова царил Любич, который оставил его, чтобы расчистить поле деятельности Давидсону. Впрочем, действительно ли он вышел из игры? Выводя толпы статистов, чтобы проклясть мадам Дюбарри или встретить приветственными кликами Анну Болейн, Любич параллельно переносил на экран оперетты. Например, "Куклу" (1919) или сатирическую комедию "Принцесса устриц" (1919), где на фоне эффектных декораций он неуклюже высмеял американские обычаи. Любич, таким образом, претворял в жизнь философию своего горбуна из "Сумурун", который "должен плясать и паясничать, потому что публика жаждет увеселений". Если учесть, как скоропалительно Любич переходил от изображения пыток и убийств к танцам и клоунаде, то вполне вероятно, что психологической подоплекой его комедий был все тот же нигилизм, который пронизывал его исторические драмы. Благодаря такому подходу Любич лишал серьезности великие события и разменивал свой комический талант на пустяки. Сдобренные его остроумием, такие пустяки превращались в пряные лакомства. С 1921 года, распрощавшись с историческими сюжетами, Любич уходит с головой в пикантный, развлекательный фильм, ставить который он был мастер. В его ленте "Горная кошка" (1921), не имевшей большого успеха, Пола Негри, игравшая дочь разбойника, разгуливала с кошачьей грацией среди непомерно высоких архитектурных сооружений, которые усиливали эффект этой пародии на балканское чванство, надутый милитаризм и, вероятно, на модное увлечение экспрессионизмом.
Не будь картин Любича, тогдашние немецкие кинокомедии не стоили бы упоминания. Экранизации оперетт и театральных пьес — среди них вечного "Принца-студента" — оттесняли ленты, исполненные неподдельного кинематографического юмора, и американские комедии, не в пример национальным, успешно утоляли жажду публики вволю посмеяться. Это обстоятельство еще раз доказывает, что естественное стремление к счастью немцы в себе не культивировали, а, пожалуй, просто мирились с ним.
Желание убежать от реальности отчасти уравновешивалось настоятельной нуждой примкнуть к той или иной стороне в борьбе идей. Некоторые фильмы, выражая негодование филистеров, сокрушались по поводу послевоенного распутства нуворишей и увлечения танцами. Откровенные пропагандистские призывы перемежались в этих фильмах с призывами восстановить пошатнувшуюся нравственность.
Два фильма возвели такой поклеп на французскую армию, что французскому правительству пришлось послать резкую ноту протеста в Берлин. Другие навлекали на себя запреты цензуры распространением антисемитских и антиреспубликанских взглядов. В напряженной атмосфере тех лет политические страсти разгорались по невинному поводу. В 1923 году в Мюнхене из-за антисемитских выступлений сорвали показ картины Манфреда Ноа по драме Лессинга "Натан Мудрый" — этот случай предвосхищал знаменитые нацистские демонстрации в Берлине, которые девятью годами позже привели к запрету романа Ремарка "На Западном фронте без перемен". Однако эти экранизации интересны только с идеологической точки зрения: они отражали групповые политические настроения, а не психологические установки.
Еще в 1919 году немецкий эстетик доктор Виктор Пордес сетовал на то, как топорно и неуклюже немцы воспроизводят на экране коллизии, где есть сцены общественной жизни и задеваются вопросы общественного поведения. Он говорил, что когда в кино изображается поведение цивилизованных людей, датские, американские и французские фильмы значительно превосходят немецкие "своей изощренностью, качеством актерского ансамбля, тоном, нюансировкой, сдержанностью актерской игры и, наконец поведением". Конечно, речь идет вовсе не о тупости немецкого кинематографа, который не умел изображать цивилизованные нравы. Больше того, критические наблюдения Пордеса подтверждают наши выводы относительно тенденции, характерной для всех крупных немецких фильмов до 1924 года. Они и не задавались целью изображать реально существующие явления — неотвратимое поражение на этом поприще обеспечивалось их внутренними установками. Лучшие литературные произведения и живописные полотна той поры точно так же изобличают отвращение к реализму. Однако эта стилистическая схожесть не исключала различий в содержании и смысле; напротив, в своих главных достижениях немецкое кино шло самостоятельным путем. Причину обращения к внутреннему миру действующих лиц следует искать в господствующих надеждах и чаяниях коллективной души. Миллионы немцев, в особенности из мелкобуржуазных слоев, словно отгородились от реального мира, который жил по указке союзников, страдал от инфляции и яростных внутренних передряг. Немцы действовали так, точно пережили психологическое потрясение, извратившее нормальные взаимоотношения между их внутренним и внешним существованием. На первый взгляд немцы жили по-прежнему; в психологическом плане они ушли в самих себя.
Читать дальше