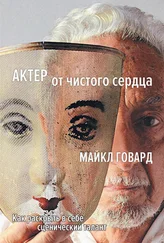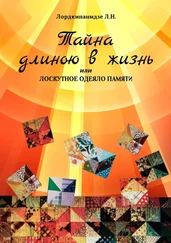Монолог Астрова, как и вся пьеса, впрочем, едва ли не погребен под истолкованиями. Все знают, что он должен выразить, как его должно произнести и как его произносили великие предшественники. Актера от всех этих знаний может спасти только одно — конкретная действенная задача. Если эту задачу найти, тогда и слова скажутся легко и не будут так связывающе-самоценны. (А то на каждом — словно пуд висит.) Бондарчука текст пока «держит» — внутренний его эквивалент не найден, не найдено и настроение, в котором Астров начинает эпизод. Сердит ли он на Елену Андреевну, которая его вызвала, написав, что муж болен (Астров приехал, а профессора даже дома нет, гуляет), или, напротив, — рад лишнему случаю побывать у Войницких именно теперь, когда она здесь? Обстоятельство это тоже немаловажно и тоже должно учитываться. И вообще — почему он решил столь откровенно высказаться? Какая тому причина?
Возможно, и даже наверное между режиссером и исполнителем было обо всем этом не раз говорено, но сегодня последствия этих разговоров что-то не очень ощущаются. Кончаловский просит: «Старайся не впасть в пафос и не оправдывай себя — мол, я заработался и это все извиняет», но исполнителю подобного рода общие требования мало что дают. Он и без того старается говорить просто, без «красящих» интонаций, но паузы — мучительные, длинные — выдают степень его напряжения.
Бондарчук вообще работает тяжело — для себя в первую очередь, но и для остальных тоже. Ему все кажется, что эпизод не удается, и он, даже тогда, когда дана команда «мотор!», вдруг останавливается и начинает фразу сызнова. Это — в нарушение всех правил, потому что, когда снимают, остановить съемку может лишь постановщик. Однако Бондарчук не выдерживает. Тут сказывается все: и характер, в достаточной мере властный, и собственная режиссерская практика (раз фальшь — стоп!), но, главное, та отдача роли, которая прорывается сквозь все и сквозь гнев тоже. Сейчас он, например, начинает явно нервничать и конец монолога: «…те, которые будут жить через сто-двести лет после нас… помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!» — произносит недоброжелательно и агрессивно.
Конечно, фразу эту можно сказать и с таким подтекстом: «стараешься для вас, мучаешься, а вы даже и не вспомните», но тогда к нему надо вести с самого начала и к тому же продолжить тему дальше, провести ее через роль. Актер же к раз возникшей интонации больше не возвращается и, кажется, находит то, что ставит эпизод «на место».
Возникают два определяющих и связанных друг с другом мотива: усталость и «великая сушь». Усталость — мотив астровский, личный; «великая сушь» — общий, но до Астрова тоже имеющий непосредственное касательство. Вот когда это определено, верно найденное самочувствие помогает снять и пафос и программность слов, объясняет и исповедь доктора. Это, конечно же, рассказ для себя, объяснение себя — себе же, та минута, когда необходимо высказаться и когда горькие истины, сказанные вслух, не отнимают силы, но странным образом укрепляют их. Будто снова и снова проверяешь свой выбор и, как ни тяжело, признаешься, что иного быть не могло.
Когда действие пойдет дальше, мотив долга обретет подтверждение в той горячности, с которой Астров будет отстаивать свои леса. И от Елены Андреевны, которая лениво и томно поинтересуется, не отвлекают ли они от работы и особенно от дяди Вани. Для них обоих разговор на эту тему — продолжение давнего и более важного, пожалуй, самого важного разговора. Разговор о том, что, как бы ни обернулась твоя жизнь лично, какие бы разочарования тебе ни пришлось испытать, за тобой все равно остаются твои обязанности. Как хочешь их назови — хоть обязанностями перед самим собой, своей совестью (если не хочешь говорить о других людях, об обществе), — но от этого они не становятся меньше, необходимость в них не пропадает.
Однако все это отчетливо прозвучит дальше, в монологе же (и фильм подтвердит это) все-таки останется что-то неопределенное. Не недосказанное, зовущее к собственным догадкам, мыслям, но именно неопределенное, неясное.
Обстоятельно и неторопливо, как часто в этом фильме, камера начнет свой рассказ. Мы увидим дом — и комнату за комнатой и сразу анфиладу — насквозь. Увидим Марию Васильевну в кресле — она читает, дымит папироской и в своих высоких воротничках, пенсне со шнурком выглядит и сверхэмансипированно и сверхинтеллигентно. (Это отмечаешь мельком, но обязательно отмечаешь и запоминаешь.) Все это время экран нем, а потом сразу взрывается — музыкой, шумом и… фотографиями. Жизнь и смерть — вот что тут рядом, вот что сопоставляется. Процветание одних, вырождение и гибель других — не только людей, тление коснулось и природы. Голы деревья, бесплодна земля, под выстрелами гибнут звери.
Читать дальше