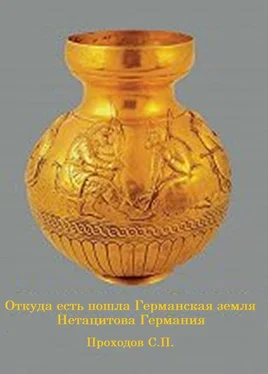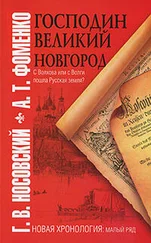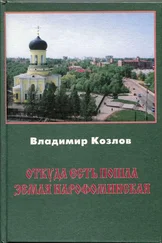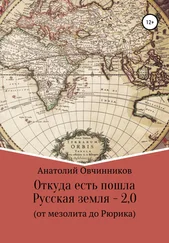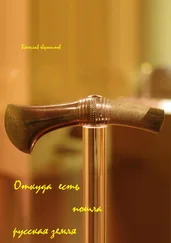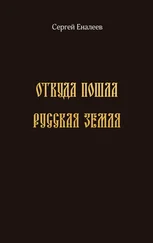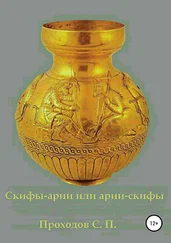Перед битвой при построении крестоносцы сконцентрировали против «литовцев» (читай русских) лучшие, отборные силы. Из описания битвы можно понять, что артилерия стреляла только по «литовцам», то есть она была изначально выставлена против них. Когда противники уже стояли друг против друга и в любой момент могла начаться атака, польский король Ягайло молился и плакал. Тевтонццы прислали ему от своего начальника вызов на поединок – не отреагировал – плакал – не до того. Предводитель «литовцев» тогда уже католик (см. НГС) Витовт, не дождавшись активных действий поляков, в ответ на артелерийский обстрел, силами татарской конницы начал или был вынужден начать атаку. После непродолжительной схватки часть «литовского» войска – конница (в основном татары!) отступила, или притворно отступила, или бежала. Основные силы русских – Смоленское, Мстиславское и Оршанское ополчения не отступили и стояли на месте. В то же время, тевтонцы атаковали польское (в основном) войско. Польские воины стойко сражались: «… повергают на землю и сокрушают.» (поляки немцев по Длугошу), что привело к тому, что немцы пробились к телу, может быть уже не плачущего, короля, и только храбрость одного(!) из приближённых не позволила пленить или убить Ягайлу. Одновременно тевтонцы попытались обойти поляков с флангов – с одной стороны встретили отпор от смоленского ополчения и завязли, с другой поначалу успешнй проход был нейтрализован галичанами (русскими). Тем не менее, введя резервы тевтонцы сковали польское воинство и были близки к победе. Отступившие, или ложно отступившие, или бежавшие «литовцы» окружили и разбили преследовавших их немцев, вернулись и ударили по, одерживающим верх над поляками и не ожидавшим такого поворота, тевтонцам, что и решило исход битвы при Грюнвальде. Это, по возможности, без субъективных оценок, если всё же допустить их – поляк Ян Длугош, главный источник информации об этих событиях, по мнению многих всячески возвеличивавший роль поляков в битве, был вынужден признать решающий вклад русских в победе. Победа в Грюнвальдской битве стала «источником национальной гордости» (так в Википедии) для поляков и литовцев (современных) – будет справедливо, если признать её (победу) совместной с русскими, это в лучшем (политкорректном) для интерпритаторов истории случае.
Крестовые походы в Палестину
Неуемная тяга к наживе – пассионарность*, как сказали бы некоторые, не позволяла кельтогерманцам ограничиться стремлением упорядочить и переварить инородцев, имеющих несчастье находиться поблизости. Палестина, ставшая объектом нападения еврозащитников веры, находилась не рядом, но ближе ничего подходящего не было. Наличие в тех местах Гроба Господня не имело решающего значения – находись христианская святыня в меньшей доступности, в Индии например, её, как в случае с полабскими славянами, несомненно божественно-виртуальным образом поместили бы в нужные для наживы земли (в ту же Палестину). Наряду с мотивами гробоосвобождения и христианоспасения, в Палестине, своевременно всплыла необходимость помощи восточным (византийским) христианам в противостоянии туркам-сельджукам. То, что братская помощь христианам Константинополя была обусловлена необходимостью свободного и удобного доступа в Палестину, а истинные побуждения крестоносцев – нажива, засвидетеьлствовано историей IV крестового похода.
*Поминаемая здесь и ранее в НГС, так называемая пассионарность представляется обывателю, как способность некоторых этносов лучше других впитывать энергию из окружающей среды, из-за чего её (энергии) излишки провоцируют у него повышенную активность, что приводит, как это ни странно, не к повышению созидательной работоспособности, но к захвату чужих земель. Это ахинея – нет энергичных и не очень народов, в силу своей этноисключительности, таковыми могут быть их отдельные представители. Казалось бы, чем выше культура, тем дальше человек от животного, но, как показывает в данном случае история, альтруизм не поспевает за культурой. Как бы не было неприятно, приходится признать, что с ростом культуры человек использует её для маскировки отсутствия должного уровня альтруизма. Люди и до сих пор в подавляющем большинстве не прочь жить за чужой счёт, то есть не против наживиться, не откажутся от наживы. Люди (святые после смерти – не в счёт) всегда стремились к наживе, если не получали неприемлемый для них отпор (наказание) или не осознавали перспективу его неотвратимости. В случае с сообществом людей – чем оно многочисленнее (сильнее), тем больше соблазн улучшить своё благосостояние за счёт малочисленного (слабого), что неминуемо приводило и приводит к насилию. С ростом культуры, физическое насилие всго лишь чаще заменяется другими его (насилия) формами. Дополнительными побудительными мотивами к насилию могли быть, как лучший уровень жизни у иного сообщества, так и ухудшившийся по каким-то причинам собственный. Причинами возникновения подобных мотивов могли быть изменения окружающей среды, приводящие к изменениям же жизненных условий, например ужесточение климата – голод, или изменения в самомом сообществе, например перенаселённость, или что-то другое, дестабилизирующее жизнь сообщества людей, например вытеснение более сильными жаждущими улучшить свою жизнь. И никакой «пассионарности».
Читать дальше