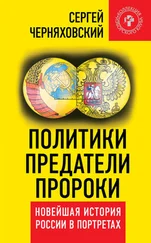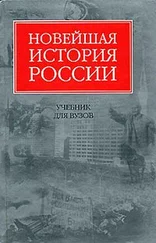В этом случае, безусловно, он не разорвал бы союз с Германией, ради Антанты. Его отношение к англосаксам хорошо иллюстрирует полуанекдотический случай, когда в Средней Азии поймали банду местных предшественников басмачей, «шаливших» на присоединенных Россией землях, а с ними инструкторов-англичанин. На заявление, что они – англичанине и лицо-де неприкосновенное, командир русского воинского отряда, посмеявшись, велел выпороть их плетьми и выгнать с территории Империи. Узнав об этом, официальный Лондон выразил России протест. Царь же ответил на это весьма своеобразно: он послал командиру упомянутого воинского подразделения поздравление с повышением в звании в виде телеграммы следующего содержания: «Поздравляю полковником, а если бы повесил, то был бы генералом». Витте в своих мемуарах пишет, с каким уважением, практически благоговением, молодой Вильгельм II (последний император Германии) относился к императору России: он даже был готов за ним носить его шинель, как ординарец, т.е. в случае если бы Александр III был жив, то вполне реально, что не было бы Антанты, не было бы Первой мировой войны, не было бы революций, и монархическая Россия была бы единственной супердержавой на планете.
Вообщем то, что Александр III умер достаточно рано – это случайность. Но говорят, что случайность – это осознанная необходимость. Я, думаю, не в этом случае, если только железнодорожное крушение не было подстроенным нашими заклятыми друзьями англо-саксами 48. О кознях английской разведки очень много пишет Н. Стариков и, как мне кажется, во многих случаях очень убедительно.
Но сын Александра III Николай II, к сожалению, не был государственным мужем масштаба своего отца, тяготился обязанностями, доставшимися ему по наследству, и допустил, что к нему явилась делегация, требовать отречения . Будь в этом случае царем Александр III , то он поступил бы иначе, чем сын: он просто арестовал бы делегацию: Гучкова с Милюковым, закрутил гайки – и продолжил бы завоевывать проливы. Но так не случилось.
А где же были представители тогдашней элиты, ведь они также сильно пострадали от последующих кровавых событий и их изменение государственной власти сильно затрагивало. Бывали случаи в истории , что получившие власть по наследству были слабыми монархами, однако окружение не позволяли этим персонам делать заведомые глупости. Пример, тот же Людовик XIII и Ришелье, Федор Иванович и Борис Годунов и т.д. Но в феврале 1917 г. бывший класс-организатор – феодалы окончательно превратились в паразитический господствующий класс, начисто забыв, что их появление было обусловлено необходимостью служить России. Они , начиная с указа Екатерины II «О вольностях дворянства», стали просто нахлебниками на теле российского социума. К началу ХХ века получилось, что бывший класс-организатор от своих обязанностей отстранился, новый – крупная буржуазия, уже сформировавшаяся, еще не была готова нести бремя государственности. В этой ситуации практического равновесия между двумя элитами решающую роль играет личность первого лица. Николаю II надо было смелее выдвигать к власти (под своим руководством) представителей крупной буржуазии (и такой опыт в историй был, например Дизраэли в Англии), чтобы сменить свою социальную опору. Шаг неординарный. Такие неординарные шаги требуют неординарных личностей. Так поступали в свое время Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт и Иосиф Сталин. Но, к сожалению, Николай II был только хорошим руководителем, а необходимо было быть выдающимся.
Далее. Но ведь и Февральская революция захватила не всю Россию, а только столицу. Вся остальная Империя продолжала жить своей жизнью. И уж если в Ставке начальник штаба Алексеев оказался в стане предателей, то Государь-то везде оставался Государем, ему, чтобы управлять Россией, необязательно было быть в Ставке, он мог переехать в Первопрестольную и раздавить крамолу оттуда – было бы желание: «Государь всея Великая, Малыя и Белыя Руси» – везде Государь 49.
То, что я написал выше – это правильно при полностью автономном, независимом от окружающего мира развитии отдельного социума. Но даже и в средние века, не говоря уж о нынешних временах глобализации, страны так или иначе были тесно связаны между собой. Например, события в Англии затрагивали интересы Франции, в борьбу за испанское наследство были включены почти все европейские державы и т.д. Вот в этих условиях нетрудно допустить, что одни державы могли вмешиваться в события другой державы, подогревая протестные настроения. И процесс, который мог бы быть эволюционным (конечно, со своими трениями, но без рек крови и революций), переходил в революционный с отсечением голов «тиранов» и массовым уничтожением всех, кто не успел спрятаться.
Читать дальше