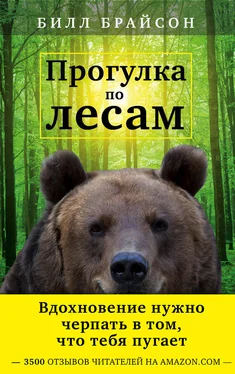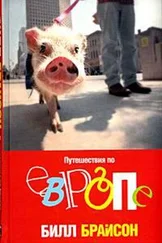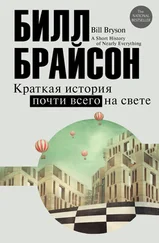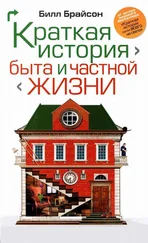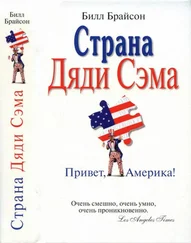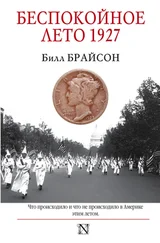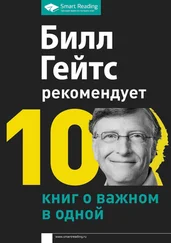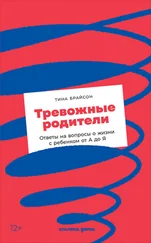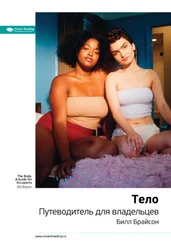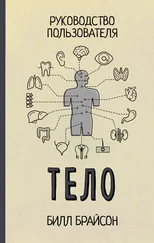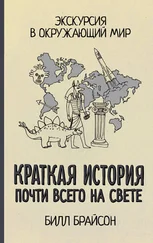Даже Кацу было от этого не по себе. «Боже, какое уродство», – выдохнул он с удивлением, как будто ничего подобного раньше не видел. Я посмотрел, куда направлен его взгляд, и увидел огромный торговый центр с гигантской парковкой размером с прерию, после чего не смог с ним не согласиться. А затем мы одновременно намочили в штаны.
У Ашера Брауна Дюрана есть картина под названием «Родственные души», которую часто воспроизводят в книгах, когда речь идет об американском пейзаже девятнадцатого века. Эта картина, написанная в 1849 году, изображает двух мужчин, стоящих на уступе скалы в Катскильских горах на фоне невероятного затерянного уголка мира, которые выглядят так, словно они вот-вот отправятся в путешествие, хотя оба человека на картине облачены в одежду, подобающую скорее для работы в какой-нибудь конторе – в длинных плащах и при галстуках. Под ними, между беспорядочными грядами скал, прямо во мрак бездны устремляется вниз горная река. За ними открывается шикарный вид на недосягаемые голубоватые горы, проглядывающие сквозь гущу листвы. По правую и левую сторону от мужчин, пытаясь втиснуться в композицию, расположились беспорядочные ряды деревьев, которые исчезают во всепоглощающей тьме.
Не могу передать, как сильно я хочу окунуться в эту картину. Ее пейзаж столь очевидно дикий, а глушь столь очевидно труднопроходимая, что все это вызывает в вас безрассудное искушение. Несомненно, вы бы погибли здесь. Возможно, вас растерзала бы пума, или вас оглушили бы томагавком, а может, вы бы просто потерялись и блуждали, сбитые с толку, пока не встретили свою смерть. Это можно понять с первого взгляда. Но вы ничего не боитесь. И через минуту-другую уже изучаете передний план картины, пытаясь найти путь вниз по течению над крутыми скалами, и размышляете, можно ли через ту расселину, что виднеется впереди, добраться до ближайшей долины. Прощайте, друзья. Судьба зовет. Не ждите к ужину.
Таких пейзажей уже не существует. А может быть, что и никогда и не существовало. Неизвестно, какие вольности позволил себе этот франт: то ли, что было на самом деле, вышло из-под рьяных мазков его кисти. В конце концов, кто бы, будь у него мольберт, складной стул, набор красок и необычный вид дикой природы, полной опасностей, не ринулся бы нарисовать нечто величественное и утонченное, особенно в жаркий июльский денек.
И пусть Аппалачи доиндустриальной эпохи выглядели, возможно, не столь нетронутыми цивилизацией и волнующими, как на картинах Дюрана и подобных ему художников, но в любом случае они, должно быть, представляли собой действительно необычайное зрелище. Трудно представить, как мало было известно людям и каким многообещающим казался в былые времена мир, лежащий за пределами восточной береговой линии. Когда известный просветитель и политик Томас Джефферсон в 1803 году отправил Льюиса и Кларка в их знаменитую сухопутную экспедицию по Америке на нетронутые территории, он не сомневался, что они встретят там мохнатых мамонтов и мастодонтов. Если бы тогда уже знали о динозаврах, он, что вполне вероятно, попросил бы их принести ему миленького такого трицератопса.
Первые люди с востока, осмелившиеся войти в самую глубь чащи (индейцы, разумеется, побывали там примерно где-то за 20 тысяч лет до них), не искали доисторических животных. Да и путь на Запад с целью освоения новых земель их не интересовал. Они искали растения. Ботаническое разнообразие Америки невероятно завораживало европейцев, поэтому на этом можно было заработать деньги и снискать себе славу. Восточная часть леса изобиловала растительностью, доселе неведомой Старому Свету, и ученые, как и энтузиасты-любители, с особым рвением желали найти здесь что-то новенькое. Представьте, если бы завтра космический корабль обнаружил джунгли, растущие под газовыми облаками Венеры. Только подумайте, сколько, предположим, заплатил бы Билл Гейтс за какое-нибудь экзотическое венерианское растение с усиками и фиолетовыми лепестками, лишь бы поставить его в горшок в своей оранжерее.
Таким для европейцев был в XVIII веке рододендрон, а также камелия, гортензия, черешня, рудбекия, азалия, астра, оноклея, катальпа, каликант, венерина мухоловка, пятилистный плющ и молочай. Эти растения, а также сотни других были собраны в американских лесах, доставлены по морю в Англию, Францию и Россию, где их приняли с алчной страстью и дрожащими руками.
Все началось с Джона Бартрэма, а если точнее, с открытия табака. Но с научной точки зрения все началось именно с Бартрэма – квакера из Пенсильвании, рожденного в 1699 году, который проявил интерес к ботанике и начал посылать семена растений и их черенки своему другу-квакеру в Лондон. В надежде обнаружить новые виды он отправился в смелое путешествие в глушь леса, иногда проходя тысячи миль через пересеченную гористую местность. Хотя Бартрэм был самоучкой, никогда не изучал латынь и имел скудное представление о классификации Линнея, он был передовым собирателем живых растений, а еще обладал необъяснимым мастерством в поиске и распознавании неизвестных видов. Из восьми сотен растений, обнаруженных в Америке колониального периода, Бартрэм нашел почти четверть. А его сын Уильям открыл еще больше.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу