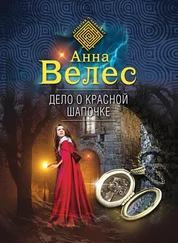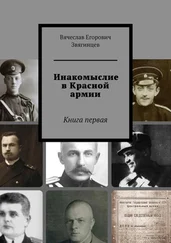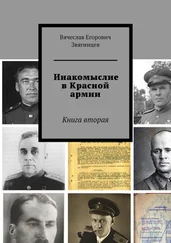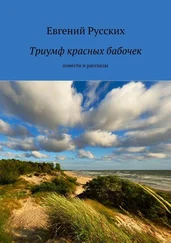Но сначала-то в монументе-то по праву была установлена статуя Франца Иосифа, законного правителя, против торжественных похорон своего противника, кстати, не возражавшего. Скульптура изображала императора в гусарском мундире, с пышными знакомыми бакенбардами.
Простояла статуя до 1919 года. После чего за дело взялись венгерские революционеры во главе с недоброй памяти коммунистом Белой Куном. Все памятники королям из династии Габсбургов были удалены, причем скульптуру Франца Иосифа красные бойцы раскололи на куски, так что на пьедестале остался только один сапог. В 1926-м поставили новую статую, теперь в коронационном платье, хотя и без короны. Этот вариант простоял до Второй мировой войны, когда бомба повредила три крайние фигуры колоннады. И в 1955 году место Франца Иосифа в колоннаде площади Героев окончательно занял Лайош Кошут.
Памятников Францу Иосифу в Будапеште нет. Ни одного. Его почитали, пока был живой и при власти, и перестали вспоминать, когда страница истории перевернулась. Злую сатиру на императора и его время, правда, тоже сочинять не стали: «Швейк» – явление чешской, не венгерской, культуры. Но и любви к нему не питают. Такова доля старшего сына.
Что ж, человечество, по крайней мере, помнит еще его имя. Как звали других старших – добропорядочных братьев Ивана-дурака или маркиза Карабаса – не знает уже никто.
Елизавета, Франц Иосиф, Будапешт. Продолжение
Считается, что единственное вмешательство императрицы Елизаветы в дела государственные приходится как раз на тот момент, когда в венгерской оппозиции стала побеждать линия, ориентированная не на завоевание независимости любой ценой, а на достижение взаимовыгодного компромисса. Инициатива принадлежала Ференцу Деаку, бывшему министром юстиции в правительстве Баттяни. Деак, либеральный мыслитель, скептически настроенный по отношению ко всяческим революциям, поначалу призывал к пассивному сопротивлению Габсбургам, а в 1865 году опубликовал в газете «Pesti Napló» статью, с которой и началось движение в сторону Австро-венгерского соглашения. «Деак и его сторонники вовсе не хотели свергнуть Габсбургов, напротив, они желали усиления их власти, но лишь в узкой области ее собственных функций. Они знали, что великие державы рассматривают империю Габсбургов как неотъемлемую принадлежность политической карты Европы, как составляющую баланса ее сил, но при этом были убеждены, что самим венграм империя совершенно необходима, что она, как щит, защищает их страну, вклинившуюся между германским молотом и славянской наковальней» [13].
Читала ли Елизавета статью Деака? Вряд ли, хотя венгерский она понимала. Скорее всего, о смене политического курса императрица узнала от графа Андраши. С ним ее связывали давние приятельские отношения, порождавшие и порождающие бесконечные сплетни. И сейчас можно встретить в венгерском интернете обсуждение животрепещущей темы: «Сисси и граф Андраши – компромисс из любви или секс ради компромисса?» («Sissi és Andrássy gróf: kiegyezés szerelemből, szex a kiegyezésért?»)
Граф Дьюла Андраши – личность яркая. Герой революции 1848–1849 годов, символически казненный после ее подавления, изгнанник, эмигрант (Le Beau Pendu, «красавчик-висельник», как называли его парижские дамы), изображаемый на портретах бравым гусаром в ментике, при усах и шпаге, он уже в 1857 году получил амнистию и вернулся в Венгрию перед новым взлетом карьеры. Судя по всему, роль Елизаветы сводилась к посредничеству между венграми и императором и женскую эмоциональную отзывчивость предположить здесь проще, чем наличие собственных политических соображений.
Венгры, и до того относившиеся к императрице с большой симпатией, возлюбили свою королеву – királyné, кирайнэ – еще больше. Пока она была жива, любовь эта проявлялась в безудержном гостеприимстве, а после ее смерти – в создании топонимов и мемориальных сооружений.
Франц Иосиф, Елизавета, Будапешт – любовный треугольник. Или четырехугольник? Франц Иосиф полюбил Елизавету и привез ее в Вену. Вена к императору относилась всегда с искренним почтением, которое не пошатнули две мировые войны. Мемориальные таблички, украшенные знакомым профилем с бакенбардами, и сейчас повсеместно присутствуют в Вене на стенах основанных им гимназий и больниц. Елизавета же Вену невзлюбила и – именно поэтому – открыла сердце Будапешту. Будапешт не любил Вену (тоже взаимно: достаточно вспомнить цитадель на горе Геллерт) и потому любил Елизавету. Осталось спросить, какую из столиц своей империи любил Франц Иосиф? Будапешт или Вену? Но Франц Иосиф никогда не руководствовался в своих решениях любовью. Старший сын, он был человеком долга, а не эмоций, и исполнял свой долг неустанно – так, как его понимал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
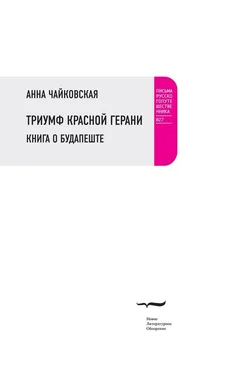
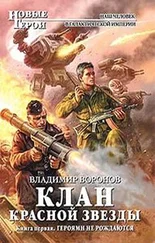
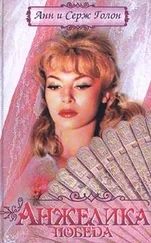
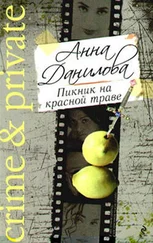
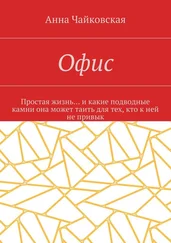

![Алексей Вязовский - Триумф Красной Звезды [CИ]](/books/419639/aleksej-vyazovskij-triumf-krasnoj-zvezdy-ci-thumb.webp)
![Алексей Вязовский - Триумф Красной Звезды [СИ]](/books/424544/aleksej-vyazovskij-triumf-krasnoj-zvezdy-si-thumb.webp)